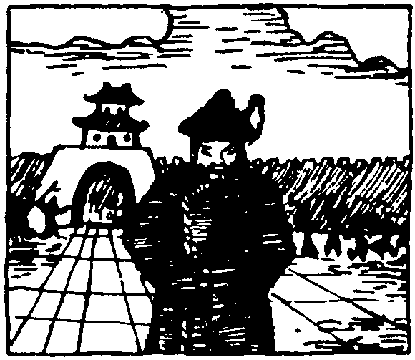
ГЁ НАН ДЖЁН,
мандарин
1767 - 1842Видный политический и военный деятель Китая
На первую страницу
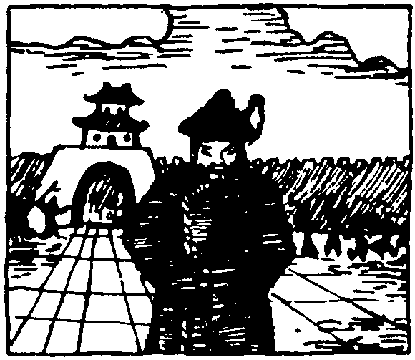
В самом имени Гё Нан Джёна заключен глубокий философский смысл. Тому, кто не пожалел отдать долгие годы изучению многоплановой символики китайских иероглифов, достойной наградой будет высокое искусство — уменье постигать через лаконичные знаки имён судьбу их носителей и то положение, которое эти люди занимали при жизни. Стремясь облегчить европейскому читателю проникновение в эту пучину премудрости, мы счастливы поделиться с ним нашими скромными, чтобы не сказать ничтожными, познаниями и сообщить, что фамилия Гё означает «граница», а прозвище Нан Джён — «хранитель юга».
Г. Н. Д. родился в провинции Шаньдун в семье писца и первоначально носил имя Ту Coy, что значит «Головастик». Когда мальчику исполнилось семь лет, отец, на каждом шагу убеждавшийся в необыкновенных дарованиях сына, отправил его учиться в знаменитый буддийский монастырь Ван Ду. При этом, как бы проникнув внутренним взором в судьбу сына и провидя его будущую славу, он дал ему прозвище Нан Джён.
С примерным трудолюбием и усидчивостью Г.Н.Д. — сначала мальчик, потом юноша и, наконец, зрелый муж — изучал в монастыре науку иероглифов. Не меньше внимания уделял он проникновению в создания великих китайских мыслителей; благоговение перед философией бессмертного Конфуция с каждым годом всё более охватывало его сердце и разум.
Его доброта и углублённое понимание им этики конфуцианства прекрасно отразились в следующем трогательном эпизоде его биографии. Будучи отпускаем своими наставниками время от времени домой, чтобы проведать родителей, Г. Н. Д. не мог не испытывать грусти и сожаления при виде того, как неумолимые годы заставляют сгибаться всё ниже спину его отца и накладывают морщины на лицо матери. Он понимал, что его появление в родном доме раз в два года, сначала подростком, а затем и взрослым человеком, может напомнить его родителям об их собственном возрасте. И, чтобы создать для отца и матери иллюзию остановившегося времени и возвратившейся молодости, любящий сын стал являться к ним каждый раз не в обычной одежде, соответствующей его летам, а в детском платьице, не доходившем ему и до колен. Такова была доброта его сердца.
По окончании 54-летнего курса обучения почтенный кандидат был допущен к государственному экзамену. Этот экзамен превратился в настоящее торжество Г. Н. Д., ибо проявленное им знание всех иероглифов, относящихся до оружейного дела и военного искусства, поразило самых глубокомысленных ученых, составлявших экзаменационный совет. Неудивительно поэтому, что на 61-м году жизни Г. Н. Д. получил назначение на пост «Командующего телохранителями Драконолицего» . Занимая эту должность и пользуясь обширной императорской библиотекой, Г. Н. Д. продолжает свои ученые изыскания и в 1834 г. издает сводный труд «Дипломатия и война» («Бай-гау Та-чан»): это словарь всех иероглифов, обозначающих чужеземцев и чужеземное или же имеющих отношение к оружию и военным действиям. Естественно, что благодаря этому труду, достойному легендарных богатырей времен императора Яо, Г.Н.Д. становится общепризнанным авторитетом в вопросах дипломатии и военных наук. В 1837 г. он возводится в сан мандарина и, как прославленный знаток международных отношений и стратегии, назначается Командующим армией при Наместнике Императора в Гонконге. Вот когда судьба пожелала раскрыть сокровенный смысл его имени «Хранитель юга», ещё раз поучительно указывая всякому, имеющему разум, на великую связь между именем и жизнью человека.
Находясь на посту Командующего, Г. Н. Д. своими деяниями подтверждает мудрость правительственного назначения его на эту Должность: он издает книгу «Танец таинственных иероглифов» («Му-Дзи мей»). Философская идея, которую автор блестяще доказывает в этом труде, заключается в том, что для победы над врагами воины должны прежде всего уметь выражать своими телодвижениями иероглифы, символизирующие грозное оружие, разгром противника и торжество над ним. Мир полон соответствий. Жизнь течет миллионами параллельных русел, которые кажутся отделёнными друг от друга только непросвещённому взору. В действительности поток — един, и русло — одно. Всё связано, подобное вызывается подобным. Действие, совершаемое в уединённом доме, неизбежно отражается в явлениях, происходящих в открытом поле.
Символические телодвижения, имитирующие нанесение врагу сокрушительного удара, не могут не ощутиться этим врагом, хотя бы он и остался в неведении об их действительном источнике.
Учение Г. Н. Д., применяющее к задачам нашего времени вечные истины философии Тао, произвело огромное впечатление на всю мыслящую часть китайского общества. В 1839 г. Гонконгский Наместник пригласил философа-командующего на торжественный приём, устроенный им офицерам английских военных кораблей, стоящих на рейде. Главный смысл церемонии заключался в показе чужеземцам и возможным врагам больших маневров китайских войск. Философским же стержнем маневров являлся «танец воинственных иероглифов» в исполнении всех частей и соединений под руководством самого Командующего. По-видимому, зрелище пляшущего войска действительно устрашило англичан; во всяком случае, в продолжение целой недели после этого Гонконг наслаждался тем же спокойствием, как и долгие века перед тем. Довольный явными плодами церемонии, Наместник послал императору специальное донесение, и Гё Нан Джёну за его подвиг была пожалована земля в окрестностях Пекина размером в 17 му и подарены пять кусков красного шёлка. Правда, в день получения Командующим известия об этом знаке благоволения и высокой оценки его заслуг Гонконг был занят англичанами, но это не имеет принципиального значения. Более чем вероятно, что если бы не «танец воинственных иероглифов», это несчастье произошло бы ещё раньше.
В 1842 г. Г. Н. Д. участвовал в Нанкинских переговорах. Здесь, с целью добиться от англичан отказа от их чрезмерных требований, он не раз собственнолично исполнял новую магическую церемонию, разработанную им на основе указаний древнейших китайских источников: танец дипломатических иероглифов. Здесь во время танца и закончился его земной путь. Не приходится удивляться, что церемония, прерванная этим несчастьем, не смогла оказать желаемого действия на английских дипломатов.
Прямой причиной безвременного ухода из жизни этого разностороннего и энергичного деятеля послужили, очевидно, ветры в печени.
Похоронен был Г. Н. Д. в Нанкине с большим почетом и торжественностью. На его каменной гробнице высечено посмертное имя — «Ай-дзи мей-дзе», что значит «сын духа Танцев и богини Иероглифолюбия».

Сидор Пантелеимонович Генисаретский родился в Сибири, в с. Благовещенском Красноярского уезда, в семье дьякона. Окончив 4-классное училище, служил писарем Губернского Правления, затем помощником делопроизводителя, делопроизводителем, помощником столоначальника, а после учреждения Акцизного Ведомства перешёл на службу в это последнее в чине титулярного советника. Добрый семьянин, человек необычайной скромности, любивший преферанс и некоторые другие незатейливые развлечения в тесном кружке приятелей и питавший неослабевающий интерес к той отрасли отечественного производства, с которой была связана работа в Акцизном Ведомстве, Генисаретский не помышлял ни о лаврах смелого исследователя, ни о славе учёного. Его судьба являет собою поучительный пример и обнадеживающий образец того, как честность и скромность могут быть иной раз вознаграждены таким взлётом фортуны, о каком и мечтать не мог благодушный сын дьякона.
В 80-х годах на неярком фоне провинциального общества г. Красноярска заметно выделялась своеобразная фигура удачливого золотопромышленника Ф. К. Полуярова. Неукротимый темперамент и могучая творческая фантазия натолкнули этого настоящего русского самородка на оригинальное, весьма необычное для того времени увлечение воздухоплавательным спортом. На обширном пустыре вблизи своего великолепного дома, получившего вследствие хлебосольства своего хозяина прозвище «Ноева ковчега», Полуяров устроил нечто вроде примитивного лётного поля, с которого стартовал однажды на аэростате конструкции талантливого инженера-самоучки Алмазова. Полет завершился благополучным приземлением в полусотне верст от Красноярска. Эта удача вдохновила Полуярова на смелый замысел: внеся кое-какие изменения в конструкцию аэростата, совершить на нём полет через Алтайский хребет. Подготовительные работы были вскоре закончены, и в одно воскресное утро в июне 1888 г. должен был состояться старт.
Среди публики, привлечённой необычайным зрелищем и толпившейся вблизи воздушного шара, который слегка покачивался на своих стропах резвыми порывами северного ветра, находился и Г. По-видимому, безобидные удовольствия, которым отдал дань накануне вечером, в субботу, Сидор Пантелеймонович, слегка нарушили обычно свойственный ему трезвый подход к вещам; во всяком случае, в нарушение своего правила — никогда не выдаваться вперёд — он позволил себе протиснуться в первый ряд зрителей и здесь с неосмотрительной громогласностью произнес несколько скептических суждений о перспективах воздухоплавания. Эти замечания были услышаны Полуяровым, уже готовившимся подняться в гондолу аэростата. Разгневанный недоверием к науке, отважный экспериментатор в эту же секунду приподнял дерзкого скептика на воздух и толкнул его в гондолу с раздражённым восклицанием, повторять которое дословно мы считаем неуместным. Но на этот раз судьба не пожелала отнестись с обычною снисходительностью к нетерпеливым выходкам русского мецената: по невыясненным до сих пор причинам шар тотчас же рванулся вверх, последние стропы лопнули, и Г. внезапно очутился совершенно один несущимся в корзине аэростата неизвестно куда и зачем, со скоростью 10 сажен в секунду.
В изложении дальнейших событий мы принуждены руководствоваться единственным имеющимся у нас источником — воспоминаниями Г. «В стране далай-лам», опубликованными в газете «Вестник Красноярского края» в июле 1891 г. К сожалению, неподготовленность нашего соотечественника к подобному путешествию и необычайные обстоятельства самого отбытия его из Красноярска придают его свидетельству о первых сутках полета несколько туманный характер. Драматизм его положения усугублялся тем, что, будучи незнаком с устройством аэростата, он и не подумал принять меры к скорейшему приземлению. Кроме того, отмеченное нами выше недоверие его к научным и техническим новшествам способствовало его твёрдой уверенности в том, что шар будто бы не может продержаться в воздухе больше нескольких минут. Поэтому сначала, спрятавшись на дне гондолы и не решаясь приподнять голову над бортом её, Г. размышлял лишь о том, как и на чём будет он добираться обратно в город после того, как шар опустится. Но когда прошло около получаса, а шар поднялся выше облаков, Г. рискнул глянуть вниз и по сторонам. Внизу простиралась покрытая лесом волнообразная равнина, а навстречу, с юга, приближались какие-то горы. Поэтому нам не кажется странным, что прежняя мысль, тревожившая воздухоплавателя, сменилась новой: беспокойством о том, успеет ли он вернуться в Красноярск к 7 ч. утра в понедельник, т. е. к началу служебного дня в Акцизном Управлении. Однако весьма скоро сделалось ясно, что высокому чувству служебного долга нашего титулярного советника готовится новый удар. Не ощущая непосредственной силы ветра, т.к. шар несся с его скоростью, Г. видел по изменениям ландшафта, что эта скорость огромна. Точно по аэродинамической трубе, аэростат несло между горных вершин, над перевалами, где несколько раз он едва не задел за скалы, а часа через два перед жертвою жестоких шуток судьбы открылась безбрежная даль пустыни. Земля ушла глубоко вниз. Однажды среди пустынных пространств заголубели изгибы большой реки; можно думать, что это была р. Тарим, хотя Г. почему-то утверждает в своих воспоминаниях, будто бы он пролетел над Нилом.
Неотчетливость географической концепции нашего путешественника отразилась и в том, что снежные горы Куэнь-Луня, которые он благополучно, хотя и с ужасающим риском, миновал уже в вечерних сумерках, были приняты им за Кавказский хребет. Вообще, нетрудно вообразить душевное состояние воздухоплавателя, если учесть рисовавшееся ему страшное будущее: быть выброшенным где-либо в дикой местности, откуда придётся добираться домой пешком через пустыню, с тем, чтобы в конце концов стать перед лицом грозного начальника, требующего объяснения дерзкой самовольной отлучки. Не могла способствовать подъёму настроения и перспектива объяснения с Полуяровым. Зато физические испытания, выпавшие на его долю, Г. выносил с беспримерным мужеством. Ни тени ропота или возмущения не чувствуется в его безыскусственном рассказе о полете.
Был ужасный холод. В шаре была шуба и одеяло, и я их одел. Провизии мне хватило. Водка тоже была в шаре, и я не замёрз.
Но, по-видимому, живительный напиток помог игрушке воздушной стихии не только в физическом, а и в психологическом отношении: лаконичность дальнейших сообщений Г. заставляет нас предположить, что смилостивившаяся над ним судьба послала ему долгий, спокойный, подкрепляющий сон.
Из состояния забытья Г. был выведен сильным толчком, за которым последовали второй и третий. Плохо ориентируясь спросонок, путешественник успел лишь сообразить, что шар приземляется и что солнце стоит высоко на небе. В ту же минуту гондолу тряхнуло ещё энергичнее, воздухоплаватель был выброшен на поросший травою склон горы, а освободившийся от его тяжести шар исчез в неизвестном направлении. На некотором расстоянии виднелась большая отара овец, а ещё дальше — селение обитателей этого загадочного края. Оттуда уже спешила группа людей. Но, подбежав к своему неожиданному гостю, эти дети природы, вместо ожидаемого приветствия, высунули языки, делая при этом оригинальные, но маловразумительные движения кистью правой руки, и в особенности большим пальцем. В свете современной науки можно с уверенностью сказать, что Г. был первым европейским исследователем, описавшим тибетский способ приветствия, хотя и не проникнув в его смысл. «Одно слово: язычники!» — с мягким юмором резюмирует он это наблюдение. С чисто русскою сметкою он подметил также, что попытка его заговорить по-русски привела к тому, что вся группа туземцев поверглась перед ним ниц: очевидно, его принимали за сверхъестественное существо, явившееся с неба. Таким образом, можно было не сомневаться, что перед ним люди, чуждые христианской цивилизации. Чрезвычайно любопытно и лингвистическое наблюдение, сделанное Г-м: он решительно утверждает, что туземцы, простираясь перед ним, выкрикивали: «Митрея! Митрея!» Надо думать, так прозвучало русскому уху слово «Майтрэйя».
Невозможность вступить в человеческое общение с туземцами чрезвычайно упростила научно-исследовательские задачи русского культуртрегера. Скупыми, но яркими штрихами живописует он свои дальнейшие приключения. Торжественно приведённый в деревню, он был водворён в помещение храма подле изваяния Будды. Возжигание благовонных палочек и монотонное пенье чередовались с трапезами, о которых Г. сообщает драгоценные подробности. «Они без конца заставляли меня пить крепкий чай с коровьим маслом: Это настоящее пойло. На крёщеной Руси такого не стал бы пить последний зимогор».
За эти дни, безвыходно проведённые в ламаистской кумирне, Г. отдохнул от перенесённых мытарств, и это дало ему силы мужественно встретить новый этап путешествия, когда набожные тибетцы решили отправить небесного гостя для выяснения личности в духовный и административный центр своей феократии. Предоставим слово самому путешественнику.
«Меня посадили на рогатое животное вроде быка. Меня сопровождало 12 туземцев. Главным был далай-лама. Мы ехали долго через горы. Некоторые горы были высотой в 20 вёрст. Если бы меня бы не закутывали бы в мех целиком, я бы замерз. Наконец мы спустились куда-то. Стало тепло. Мы останавливались в юртах кочевников или в языческих монастырях. Народ добродушный, только все они очень глупы. По-русски не знает ни один далай-лама. Наконец меня привезли куда надо. Это был город и дворец в десять этажей».
Итак, наш исследователь оказался первым европейцем, проникшим, ценой всевозможных лишений и риска собственной жизнью, в тибетскую столицу, где его личность очутилась в центре внимания высшего ламаистского духовенства. Целомудренная, скупая литературная манера Г. не позволяет нам заключить ничего определённого ни о том, кто именно из лхасских сановников и какими способами пытался выяснить его происхождение, ни о той обстановке, которою Г. был окружён в таинственном городе. Слишком скромное представление о собственных возможностях помешало исследователю проявить свойственную ему наблюдательность, способность к глубокому анализу и широкому синтезу. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что в его воспоминаниях мы не находим никаких сведений о внешнем виде Лхассы и знаменитого дворца Поталы, равно как и об одежде, обрядах, быте, ремёслах, художественных изделиях, утвари и т.п. Так или иначе, после двухмесячного пребывания в Лхассе в условиях почетного заключения Г. был снова посажен на яка и, на этот раз уже без особых церемоний, перевезен торговым караваном в Сринагар — главный город индийской провинции Кашмир. Надо полагать, лхасские власти убедились в земном происхождении своего гостя и, с грубоватостью людей, чуждых гуманной цивилизации нашего века, выпроводили его за границу. Только в Бомбее встретился наконец Г. с первым человеком, говорившим по-русски: с русским консулом. Здесь наконец он узнал, что исследованная им страна называется Тибетом и до этого времени оставалась недоступной для европейцев.
Путевые воспоминания Г. об Индии представляют, естественно, меньше интереса, чем его талантливые зарисовки Тибета. Если мы припомним описание путешествия по Индии великого русского исследователя XV века Афанасия Никитина, фактически открывшего эту страну для учёного мира, мы убедимся, что данные, сообщаемые об Индии Г., уже нашли своё место в книге его гениального предшественника.
Зато бесконечную ценность для историка русского быта и нравов представляют страницы из воспоминаний, посвящённые возвращению в родной Красноярск. Безыскусственно, просто, но со множеством интереснейших подробностей повествуют они о восторженном приёме, устроенном герою воздухоплавания красноярским обществом; о том, как Полуяров, считавший Сидора Пантелеймоновича невинной жертвой своей необузданной вспышки, обнял его, рыдая, и осчастливил ценным подарком — бронзовыми настольными часами в форме аэростата, каждый час наигрывавшими «Во саду ли, в огороде»; о том, как начальник Акцизного Управления, вместо того чтобы распечь подчинённого за самовольную отлучку, принял его с благосклонною шуткой и целых полчаса расспрашивал о подробностях путешествия; о том, наконец, какие обеды устраивались красноярской общественностью. Если бы погибли все документы, по которым мы судим о видах и родах спиртных напитков и праздничных кушаний, употреблявшихся в Сибири в конце XIX столетия, записок Г. было бы достаточно, чтобы восполнить эту роковую утрату.
Публикация его труда «В стране далай-лам» вызвала живой отклик не только в отечественной, но и в заграничной, особенно английской печати. К сожалению, мы не имеем права обойти молчанием некоторых выступлений, прозвучавших неприятным диссонансом среди голосов признанных учёных, указывавших на огромное значение подвига Г. для географической науки. В Англии нашёлся даже некий Джемс Кларк, не постеснявшийся иронизировать над самоотверженным исследователем в том смысле, что признание Г. первым европейским аэронавтом, посетившим Лхассу, не имеет будто бы под собой почвы ввиду того, что он уроженец Сибири. Рассужденье столь же смешное, сколь и некорректное! Как будто нельзя родиться в Сибири и оставаться больше европейцем, чем заносчивый м-р Кларк, всю жизнь свою прозябавший, вероятно, в каком-нибудь английском захолустье.
Тибетским путешествием заканчивается период жизни Г., имевший значение для мировой науки. Возвратившись к служебной деятельности в Акцизном Ведомстве, путешественник, видимо, окончательно убедился в том, что никакие приключения в экзотических странах, сколь бы ярки они ни были, не могут идти в сравнение с радостями скромного существования в лоне любящей семьи и круга приятелей, объединённых общими вкусами и интересами. Мирно и незаметно прожил Г. остаток своих дней.
На незатейливом памятнике, водружённом над его могилою безутешной вдовой, можно и теперь ещё разобрать трогательные строки:
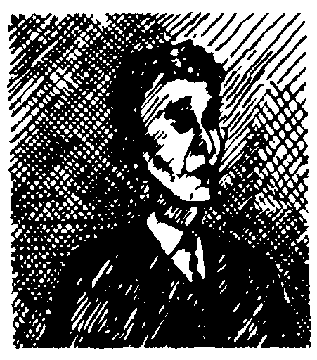
Знакомство с краткою жизнью и трагической гибелью замечательного польского экспериментатора не может не оставить глубокого следа в душе каждого, кто сохранил ещё достаточную свежесть чувства и способность к горячему сердечному отклику на проявление героического начала в жизни.
Отец Исаака Иззагардинера, владелец шоколадной фабрики в г. Кракове, имел возможность наблюдать необычайные задатки своего первенца уже в самом нежном его возрасте.
Рано развившийся, с хрупкою нервной организацией, Исаак ещё в годы своего обучения в хедере удивляет наставников и товарищей какою-то особенной душевной нежностью, склонностью к идеальным порывам и мало свойственной этому возрасту возвышенностью общей душевной настроенности. Такие натуры редко отличаются практичностью и житейским здравым смыслом. Несомненно, это был представитель того нередкого среди еврейства типа идеалиста-мечтателя и книголюба, которого в старину легко было встретить особенно среди знатоков талмуда, комментаторов каббалы, цадиков; условия нашего столетия, однако, придали врождённым склонностям И. несколько иное, довольно неожиданное направление.
Окончание Исааком частной мужской гимназии совпало с установлением государственной независимости Польши и с расширением прав местного еврейского населения. Перед И. открылись двери Краковского университета, в который он и поступил на медицинский факультет. Этот выбор был сделан юношей вопреки воле отца, рассчитывавшего видеть в единственном сыне своего преемника; впрочем, семейству Иззагардинеров давно уже стало ясно, что характеру юного мыслителя недостает целого ряда свойств, необходимых практическому деятелю. Вместе с тем задумчивый юноша, постоянно витавший, по выражению его отца, в облаках, умел проявлять железное упорство и настойчивость, когда дело касалось принципиально важных для него вопросов жизни.
Известно, что на выбор профессии молодым И. повлияло одно прискорбное событие в его семье: его любимый дядя, много лет страдавший гастритом, преждевременно и скоропостижно скончался от заворота кишок.
Размышления о причинах этого несчастья привели молодого человека к своеобразному выводу: он остановился на мысли, будто бы предпосылкой заворота кишок явился гастрит, вызванный в свою очередь привычкой покойного недостаточно хорошо прожёвывать пищу. Эта догадка, быть может и спорная с точки зрения господствующих в современной науке взглядов, переросла в сознании юного мыслителя в некую неподвижную и почти всеобъемлющую идею: дурное прожёвывание пищи стало рисоваться ему источником едва ли не большинства бедствий, постигающих человека. Именно эта идея и заставила его избрать медицинский факультет, чтобы отдать все свои силы делу борьбы с упомянутым злом.
К концу университетского курса И. уже полностью отдавал себе отчет в том, что корень несчастья заключается в несоответствии имеющегося у человека количества зубов потребностям усвоения пищи. Подтверждение этой мысли И. находил в углублённом изучении сравнительной стоматологии, открывшем ему тот факт, что многие позвоночные, в особенности некоторые рыбы и ископаемые рептилии, обладали добавочными рядами зубов на нёбе и даже на языке. Таким образом, стоматология, которую И. решил избрать своей специальностью, способствовала кристаллизации его идеи и привела к тому, что после сдачи государственных экзаменов молодой ученый целиком посвятил себя разработке своего замечательного изобретения.
Сущность его заключалась в доведении числа зубов человека до 42. Найти в полости рта место для размещения такого количества инородных тел представлялось нелёгким делом. И. разрешил эту задачу остроумно и просто: 5 зубов должны были уместиться на нёбе, образуя как бы вогнутую дугу, направленную перпендикулярно к передним зубам в сторону гортани. Но так как соответствующую им пятерку нижних зубов можно было разместить только на языке, то изобретатель прибег к идее эластичной ленты, надеваемой на язык только во время принятия пищи, закрепляемой на нём с помощью присосок и снабжённой сверху пятью фарфоровыми зубами.
В 1925 г. молодой изобретатель изложил свой проект усовершенствования жевательного аппарата на заседании Польского Медицинского общества.
Вряд ли когда-нибудь случалось хоть одному новатору в области науки пережить минуты, подобные тем минутам после доклада, которые всякого другого изобретателя, менее уверенного в своей правоте, чем И., могли бы толкнуть на самоубийство или свести с ума. Из-за хохота, стоявшего в зале, последние фразы доклада так и остались никем не услышанными. Знаменитого стоматолога проф. Пшенявского пришлось отпаивать валерьянкой. Другое светило науки было выведено из зала под руки, ибо приступ смеха не давал ему самостоятельно переступать ногами. Про одного маститого ученого (назвать здесь его фамилию мы не решаемся, щадя его репутацию в ученом мире) рассказывали даже, будто бы он, потеряв всякий контроль над своим брюшным прессом и дыхательными мышцами, дохохотался до того, что по возвращении домой с ним случился приступ нервической икоты, не прекращавшейся шесть суток и едва не сведшей этого весёлого не по возрасту специалиста в могилу.
Такая реакция квалифицированной аудитории, наглядно продемонстрировавшая всю косность и несерьёзность дипломированных представителей польской медицины, исключала, разумеется, всякую надежду на объективный разбор проекта д-ра И. Разрыв замечательного новатора с научной общественностью стал совершившимся фактом; изобретатель вместе со своей идеей был предоставлен самому себе. К счастью, независимое состояние И. спасало его, по крайней мере, от материальной катастрофы, которая постигла бы на его месте всякого научного работника, не имеющего дополнительных средств существования. И. сумел даже опубликовать проект своего изобретения, издав его за собственный счет; впрочем, и этот шаг не возымел никакого положительного эффекта.
Печальные размышления о будущем мировой науки охватят всякого, кто ознакомится с четырехлетними мытарствами И., махнувшего рукой на товарищескую помощь и пытавшегося на свой страх и риск найти хотя бы одного непредубеждённого человека, который согласился бы подвергнуться рекомендуемой операции. Странное ослепление мешало людям понять, что они отказываются от собственного счастья, от баснословного увеличения способности своего организма усваивать пищу и, следовательно, от продления своей жизни на много лет против положенного ей от природы срока. Даже единственный единомышленник И., престарелый и, к сожалению, проявлявший признаки dementia senilis стоматолог Стамескес отказался подвергнуть себя рискованному опыту и предложил вместо этого произвести операцию над самим И. После недолгого колебания, не видя иных путей к осуществлению своей идеи, изобретатель мужественно ответил согласием.
В мае 1929 г. роковая операция состоялась. У оперированного был удален кусок нёбной кости и на его место вставлена пластиковая пластинка с пятью фарфоровыми зубами. Для надевания на язык была приспособлена лента из эластичного материала, снабжённая таким же количеством зубов и присосками.
К сожалению, непредвиденные обстоятельства затруднили пользование усовершенствованным жевательным аппаратом.
Прежде всего, обнаружилась неправильность расчета изобретателя на то, что ленту можно будет снимать на всё время между часами принятия пищи, дабы обеспечить отдых языку и не мешать дикции: верхние зубы, укреплённые вдоль неба, всё равно тревожили язык при малейшем его движении; уже через сутки после операции не только речь, но даже акт проглатывания слюны сделался мучительным, язык распух и едва умещался в полости рта. Пришлось опять защитить его от небных зубов лентою; однако при наличии ленты речь делалась окончательно невозможной и оперированный вынужден был объясняться с окружающими при помощи карандаша. Кроме того, наличие ленты препятствовало правильному кровообращению (кровоснабжению) языка; на этой почве и вследствие постоянного давления со стороны небных зубов на языке появились пролежни.
Срочно созванный консилиум специалистов обратился к мужественному экспериментатору с настойчивым предложением: отказаться от дальнейших попыток и, признав опыт неудавшимся, решиться на удаление из неба злополучной пластинки с зубами. Но мученик науки слабеющими пальцами начертал ответ, достойный украсить биографии подлинных героев: «Моя жизнь имеет смысл постольку, поскольку она служит ступенью к долголетию других и к счастью человечества. Ничего нет отраднее, чем сознание, что отдаешь себя во имя продления жизни миллионов. Да здравствует наука!»
К сожалению, эти слова оказались пророческими: через два дня пролежни перешли в молниеносную гангрену, и 17 мая 1929 г. Исаака Иззагардинера не стало.

Время рождения Квак-Ма-Лунг (Эсфирь-Анны Броунинг) установлено только приблизительно, т. к. к вопросам летосчисления до своего приобщения к цивилизации К. относилась без заметного интереса.
Племя кири-кири этнически входит в состав обширной группы даякских племён, заселивших не менее I тысячи лет назад о. Борнео и ряд мелких островов в его окрестностях. Оно обитает на небольшом, ок. 20 км в поперечнике, одноимённом островке и до последнего времени пользовалось репутацией свирепых каннибалов.
В 1910 г. племенем был вероломно убит и принял невольно, так сказать, страдательное участие в каннибальской оргии миссионер реформаторской церкви преподобный Стокс. Когда на его место прибыл 7 месяцев спустя новый герой просвещения отсталых народностей преп. Гарри Броунинг, многие кири-кири ещё пользовались личными вещами своей недавней жертвы. Так, например, Квак-Ма-Лунг, одна из наиболее смышлёных представительниц прекрасного пола на о. Кири-кири, ни днём ни ночью не расставалась с целлулоидовым воротничком погибшего, хотя этою реликвией едва ли не исчерпывался её скромный туалет.
Не подлежит сомнению, что ни кротость, ни бесконечное терпение, ни духовная твёрдость не спасли бы преп. Броунинга от участи его предшественника, если бы, в противоположность покойному Стоксу, он не обладал молодостью и чрезвычайно привлекательной внешностью. Сердце К., оставшееся глухим к увещеваниям трагически погибшего почтенного джентльмена, на этот раз доказало принадлежность своей владелицы к человеческому роду.
Опасаясь соплеменников, К. таила своё робкое чувство вплоть до того рокового дня, на который вождём племени была назначена очередная каннибальская оргия, сопровождавшаяся как водится, необузданными плясками в честь производительных сил природы. Зная, что преп. Броунинг должен пасть в этот вечер новой жертвой искажённых понятий этих темных людей, К. тайно проникла ночью в его шалаш и, сообщив об опасности, умоляла его бежать. Но так как самоотверженный проповедник наотрез отказался покинуть пост, на который чувствовал себя поставленным высшею силой, то К. прибегла к отчаянной хитрости, приведшей к её разрыву с материнским племенем. Подмешав в пищу преп. Броунинга мелкие кусочки корня Cecilia arbonica, широко используемого даяками в качестве снотворного мужественная девушка, не дожидаясь утра, перенесла бесчувственного миссионера на своих плечах к морскому берегу, проделав при этом свыше 5 километров по непроходимым джунглям. Разумеется, нигде на всем о. Кири-кири беглецы не могли быть вне опасности. Поэтому К., не медля ни минуты, соорудила примитивный плот, когда действие Cecilia arbonica прекратилось и преп. Броунинг поднял отяжелевшие веки, он, к своему немалому удивлению, увидел вокруг себя водную поверхность, поглощённую восходящим солнцем, а в какой-нибудь сотне ярдов впереди — берег о. Борнео.
После всего происшедшего вопрос о возвращении к просветительской деятельности на о. Кири-кири для преп. Броунинга отпадал сам собой. Беглецы приютились сначала на ближайшей английской фактории, где преп. Броунинг стяжал первый плод своего подвига, присоединив Квак-Ма-Лунг к реформатской церкви, согласно всем требованиям своей конфессии, под именем Эсфири-Анны. Убогий наряд дикарки, состоявший из кое-каких ракушек, был оставлен, и члены тела Эсфири-Анны впервые ощутили благодетельную близость полотна и бумазеи. Только воротничок покойного Стокса новообращённая решила оставить на себе как постоянное напоминание о прошлых заблуждениях.
Вместе со своею спутницею Броунинг прибыл в реформатскую миссию в г. Банджермазине, где принуждён был несколько месяцев ждать нового назначения. В этом же городке в сентябре 1911 г. беглецы сочетались законным браком по обряду своей церкви. Однако обстоятельства, при которых Броунинг принуждён был покинуть свой пост на о. Кири-кири, возбудили некоторое недоумение в миссионерском братстве, и Броунингу пришлось совершить вместе с молодою супругою плавание через океан. Лишь в Сан-Франциско, перед лицом руководящих членов братства, удалось ему отклонить от себя подозрение в дезертирстве.
Впечатления, полученные Эсфирью-Анной в Банджермазине, Маниле и Сан-Франциско, обильно оросили девственную почву её духа, и семя, брошенное мужественным проповедником, быстро принесло щедрый урожай. Э.-А. выразила твёрдую решимость отдать свои силы делу просвещения отсталых народностей и с поразительной быстротой усвоила небольшой объем необходимых для этого знаний. К сожалению, её отбытию из Америки на Борнео предшествовало прискорбное событие — загадочное и бесследное исчезновение преп. Броунинга, от которого не уцелело даже косточки. Подавленная горем, но ещё сильнее воспылав духовной ревностью, Э.-А. была отправлена назад и в августе 1913 г. прибыла в Банджермазин, в распоряжение миссии. Мрачные воспоминания, связанные с о. Кири-кири, не благоприятствовали её назначению на этот остров; вместо прежних соплеменников в качестве арены для её благочестивых усилий было указано небольшое даякское племя лу. Знание даякского языка, обычаев и психологии паствы открыло ей доступ к простым сердцам детей природы, и в первое полугодие цивилизаторской деятельности Эсфирью-Анной были приобщены к радостям духовной жизни 9 женщин и 3 мужчин. Главные же усилия молодой просветительницы были направлены, во-первых, на борьбу с людоедством, во-вторых, — на то, чтобы уговорить даяков хоть немного усложнить свой костюм. Беспристрастие, являющееся во всё время священным долгом всякого историографа, заставляет нас, однако, признаться в том, что атавистические инстинкты оказались не до конца изжитыми и в душе самой Э.-А. Никому не известно, какую внутреннюю борьбу пережила проповедница в это первое полугодие среди племени лу; известно лишь, что в ту весеннюю ночь 1914 г., которая должна была быть посвящена ритуальной оргии в честь производительных сил природы, древний голос крови заговорил в бывшей Квак-Ма-Лунг с непреоборимой силой. С внезапным гневом и отвращением сорвав с себя покровы цивилизации, за исключением воротничка, молодая женщина с вакхическим воплем присоединилась к разнузданным действиям своей паствы. Трудно представить, как могла бы сложиться после этого неожиданного срыва судьба Э.-А., если бы Бум-Нампрок, вождь племени лу, не оказался взволнован больше обычного её экстатическим поведением. Ещё не взошло солнце, спешившее своими лучами обличить падение служительницы высших истин, как Э.-А. была объявлена первою супругою вождя и вступила в его роскошный шалаш как полновластная хозяйка.
В последующие годы, вплоть до своей мирной кончины от укуса змеи, Э.-А. принесла своему новому супругу 16 детей. Но и обременённая материнскими обязанностями, она не оставляла попечений о духовном и материальном процветании племени.
Память о ней доселе хранится в непритязательном фольклоре племени лу, где бывшая проповедница фигурирует под именем Ma-тумба, что значит — «Потерявшая счет своим детям мать племени лу».

На долю писателей и поэтов, носителей художественной гениальности, редко выпадают судьбы столь безбурные и вместе с тем ознаменованные столь неизменным успехом, как судьба Доувеса ван Ноордена.
Этот выдающийся мастер слова принадлежал к тому роду творцов, событиями жизни которых являются, по выражению Г. Флобера, лишь их собственные произведения.
По окончании Лейденского университета в. Н. принимается за свой первый роман «Розы юнгфру Дончен». Материальный достаток (в. Н. принадлежал к состоятельной семье, возглавлявшей известную фирму «Корица ван Ноорден и Куттен») и спокойный уравновешенный характер обеспечивали писателю возможность неторопливой, методической работы.
Первый роман, с точки зрения современной критики не представляющий особого интереса, был, однако, тепло встречен читающей публикой. Понравилось сочетание тенденций гуманистического реализма со свойственным только в. Н. подходом к людям и к явлениям жизни: подходом неистощимо добродушного, всем сочувствующего, в меру веселого наблюдателя, любящего больше всего домашний уют, безобидную шутку, уравновешенных жизнерадостных людей, занятых то легким, приятным трудом, то безвредными развлечениями, и мягкость нидерландской природы с её притушенными красками, неторопливой зыбью каналов и медлительным движением судов по бесчисленным водным артериям.
Этот характер экспозиции жизненного материала, искрящийся порою блёстками юмора и оттеняемый брошенными мимоходом мазками, живописующими минуты более напряжённых переживаний действующих лиц, определил собою творческую манеру Н. почти на всю его долгую литературную жизнь.
Жизнь эта протекала гладко, тихо и ровно, как бы подражая неспешному движению вод в равнинных реках его родины. Каждые пять лет, с поражающей нас аккуратностью, в. Н. дарил публику новым романом или сборником новелл. С годами его мастерство крепло, расширялся круг тем, но мироотношение писателя оставалось прежним, в равной степени чуждаясь как индивидуалистических крайностей эстетического и философского декаданса, так и разработки больших социальных проблем. Единственным произведением, в котором в. Н. попытался коснуться темы войны и вопроса о путях социального совершенствования, мы можем считать роман «Не плачьте, вдовы», вышедший в 1920 г. Шедеврами в. Н. считаются, по справедливости, произведения совсем иного рода: книга рассказов «Веселые крокетисты» и семейные романы-идиллии «Дом архивариуса ван Флит» и «Кузина Гретель». Здоровый оптимизм, крепкая, спокойная любовь к жизни, чисто голландский юмор, вызывающий в памяти полотна ван Остаде, сделали эти прелестные поэмы в прозе украшением библиотеки почти в любом голландском доме.
Столь же гармонично сложилась и личная жизнь в. Н. Женившись 28 лет на дочери богатого негоцианта Екатерине ван Линден, писатель с годами стал настоящим Pater Familias, в 60-летнем возрасте это был отец девятерых детей и дедушка 22 внуков, преуспевающий глава торговой фирмы, всеми уважаемый депутат Нижней Палаты, член нескольких академий, собственник очаровательного маленького дворца в Амстердаме и виллы на морском берегу.
В возрасте 75 лет в. Н. испытал небольшое кровоизлияние в мозг, лишившее его способности действовать правой ногой и приковавшее его на остаток дней к креслу на колесах. К. счастью, удар не отразился ни на умственных способностях, ни на даре речи, ни на художественном даровании. Казалось даже, что почтенный старец, восседающий в своей колясочке, странным образом обрёл в обрушившемся на него испытании новый запас духовных сил: больше, чем когда-нибудь, его речь блистала остроумием, рассказы о прошлом очаровывали слушателей свежестью красок и живостью картин, а роман «Любитель шуток», который он понемногу, день за днём, диктовал своей любимой внучке Бэт, обещал вплести в его венок новые лавры. Казалось, всё предвещало заслуженному писателю мирную, ничем не омрачённую старость. Однако безжалостный рок судил иное. Он подготавливал цепь столь неожиданных, даже, можно сказать, ошеломляющих событий, что биографу до сих пор трудно увязать их с общеизвестным спокойствием и прославленной невозмутимостью характера маститого нидерландского писателя. В числе близких подруг юнгфру Бэт, запросто посещавших дом в. Н., находилась двадцатилетняя Долорес Сандрильонес, дочь богатого испанского коммерсанта, торговые интересы которого, тесно связанные с нидерландскими деловыми кругами, заставили его обосноваться в Голландии. Последние годы детства и юности Долорес протекали в Амстердаме, но влияние голландского уклада жизни и национальной психологии этой страны не смогли серьезно изменить порывистой и страстной природы уроженки Андалузии. Однако её эксцентрические выходки пока ещё не переступали границ допустимого и воспринимались её голландскими друзьями как оригинальная дань её романскому происхождению.
Толчком к несчастью, разразившемуся над домом ван Ноорденов, послужило безобидное, казалось бы, желание Долорес принять участие в работе своей подруги Бэт, стенографировавшей роман «Любитель шуток» под диктовку своего дедушки. Возраст и состояние здоровья в. Н. представлялись надежной гарантией против каких бы то ни было романтических увлечений, которые могли бы зародиться в сердце его юной почитательницы. Но не следует забывать, сколько блеска и игры мысли, какая живость ума и чувства проявлялись в каждом высказывании жизнерадостного старца, в каждом его рассказе. Уже давно очарованная этими увлекательными беседами, Долорес оставалась теперь целыми часами наедине с писателем, делаясь свидетельницей и едва ли не участницей волнующих таинственных перипетий творческого процесса. Более странным нам кажется другое: то, что самого в. Н. вплоть до роковой минуты так и не посетило ни разу подозрение об истинном характере привязанности к нему подруги его внучки. Неожиданное, как снег среди жаркого лета, объяснение, облечённое к тому же в форму бурных, абсурдных, ни с чем не сообразных требований, показалось в. Н. столь чудовищным, прямо-таки невозможным, что минутами он серьезно сомневался в реальности происходившего. Действительно, трудно было поверить, что человеку его лет, разбитому параличом, предлагают немедленно бросить жену, детей и внуков и, прибегнув к помощи обмана, исчезнуть с молодой поклонницей для того, чтобы вкусить с нею всю полноту счастья в африканских колониях Испании.
Потрясение писателя было так велико, а содержание объяснения казалось столь неправдоподобным, что невольный виновник бурной привязанности даже не решился поведать о происшедшем госпоже ван Ноорден или кому-либо из других членов семьи. Он только сумел прервать, под предлогом нездоровья, диктовку злополучного романа «Любитель шуток», тем самым лишив свою поклонницу возможности встреч и поэтому, как ему казалось, предотвратив дальнейшее развитие её страсти.
Катастрофа разразилась в мае 1935 г., в первые же дни после переезда писателя на его виллу. Вилла находилась на берегу Зюдер-зее в местечке Флаккдам; одной стороной домовладение выходило на побережье, а другой — на прелестную тихую улицу, окружённую садами, в глубине которых прятались другие виллы и несколько более скромных домиков, типа коттеджей. Улица упиралась в небольшую площадь Флаккдама с его общественными зданиями и несколькими магазинами; другим же концом она терялась в поле, превращённом в плантацию тюльпанов.
18 мая писатель, чувствовавший себя действительно не вполне здоровым, но не желавший упускать превосходного солнечного дня, был вывезен в сад. С моря дул ветерок, и поэтому г-жа ван Ноорден распорядилась водворить своего супруга на уютной лужайке в той части сада, которая была расположена между улицей и домом и защищена этим последним от свежего дыхания морской стихии. Не расположенный в этот день к работе, в. Н. был оставлен, по его собственной просьбе, в коляске с несколькими книгами и пачкой газет.
Мягкое весеннее солнышко так нежно ласкало лицо и руки, а отзвуки прибоя доносились с такою усыпительной монотонностью, что писатель сам не заметил, как приятная дремота смежила его веки. Проснулся он от резкого толчка и в первую секунду мог только понять, что его коляска, кем-то толкаемая сзади, с необычной быстротой катится к калитке на улицу. Слабо вскрикнув, несчастный попытался повернуться в своем экипаже, чтобы выяснить личность виновника столь стремительного бега; но раньше, чем ему удалось это совершить, коляска очутилась уже по ту сторону калитки и понеслась вдоль садовых оград по направлению к тюльпановой плантации. Каково же было потрясение чувств писателя, когда, сумев, наконец, оглянуться, он увидел в полуметре от своего лица сверкающие глаза и разгорячённые щеки своей поклонницы!..
Со свойственной всем выдающимся умам быстротой ориентировки писатель сообразил, что сколь это ни дико, но он становится жертвой похищения. Пучина неизведанных бедствий явилась в тот же миг его очам, побуждая его к отчаянным мерам самозащиты. Улица, как нарочно, была совершенно безлюдна: ни полисмена, ни единого прохожего. Только в одном из цветников, мимо которых мчалась кресло-коляска, группа молодежи играла в крокет. В. Н. успел крикнуть и несколько раз взмахнуть рукой, однако играющие, чрезмерно увлечённые своей партией, не обратили внимания на эти мольбы о помощи: очевидно, они находились весьма далеко от мысли, что от их поведения в эту минуту зависит судьба одного из лучших умов их родины. Видя безрезультатность зовов на помощь, несчастный попытался, рискуя жизнью, выпрыгнуть из коляски, но непослушная правая нога помешала этой попытке. Да и было уже поздно: на краю плантации зловеще чернел на фоне розовых и алых тюльпанов закрытый «кадиллак». Уже плохо сознавая происходящее, писатель почувствовал, как чьи-то руки отрывают его от кресла и вбрасывают внутрь машины, похитительница садится за руль, включает [?], и вот уже за стеклами начинают мелькать, уносясь, быть может, навсегда, окрестности милого Флаккдама.
Размеры биографии не позволяют нам останавливаться подробно на дальнейших перипетиях этих трагических дней, равно как и на смятении, вызванном исчезновением писателя, сперва на вилле ван Ноорденов, а потом и во всем голландском обществе. Похищение было совершено с такой смелостью, а стечение обстоятельств так благоприятствовало похитительнице, что никакие новые факты, даже обнаружение на краю плантации опрокинутой коляски, не могли пособить делу. И семья пропавшего, и полиция, и общественность были к тому же введены в заблуждение политической обстановкой тех дней; общий голос настойчиво обвинял в гнусном преступлении немецких национал-социалистов, давно уже проявлявших слишком повышенный интерес к передовым деятелям сопредельных Германии стран и не гнушавшихся никакими средствами для их устранения.
Но через четверо суток семья писателя получила телеграмму: «Торопитесь приехать отель Беренгария Лейден спешите Ноорден».
Надо ли говорить, с какой быстротой члены семейства откликнулись на этот отчаянный призыв. Впрочем, газеты опередили родственников и напечатали интервью своих корреспондентов с в. Н. под сенсационными заголовками: «Я протестую против слабости отечественных законов, неспособных оградить покой личности!», «Ван Ноорден просит Голландию защитить его жизнь!», «Спасения и охраны просит у своей страны её любимый писатель!»
Взорам прибывших в Лейден родных предстало прискорбное зрелище: седины, ещё недавно обрамлявшие высокое чело писателя, сильно поредели, печать истощения лежала на его лице; мы уже не говорим о состоянии его гардероба...
Почтенное семейство должно было пережить дополнительные огорчения, когда были получены парижские и в особенности американские газеты, пестревшие крикливыми заголовками вроде следующих: «Новый Лот! Пленник собственной внучки!», «Любовь торжествует над старостью! Похищение голландского писателя красавицей испанкой!», «Шалости престарелого купидона на Зюдер-зее».
На эстрадах Нью-Йорка и Чикаго имел скандальный успех отвратительный скетч «Дон-Жуан на колесах», где высмеивался скромный экипаж писателя, использованный его похитительницей в качестве транспортного средства. Но всех превзошёл эмигрантский листок «Хоругвь», поместивший фельетон под более чем неуместным заглавием: «Любовь зла — полюбишь и козла!»
Следует ли говорить, что объяснения, данные в. Н. представителям прессы, не содержали ничего, что оправдывало бы эти дерзкие инсинуации.
Писатель выразился резко, но с той сдержанностью, которая имела характер рыцарской заботы о репутации девушки, столь неосторожно ввергнувшей и его и свою честь в пучину этих экстравагантных приключений.
«Я протестую, — сказал он, — против такого устройства человеческого общества, в котором престарелому писателю грозит похищение. Я протестую против такого общественного уклада, при котором тщетно взывать о помощи! Я протестую против общественного порядка, при котором молодые люди насильственно пытаются удовлетворить свои желания!.. Я негодую на тот нравственный абсентеизм, который ведёт к тому, что партия крокета оказывается предпочтительнее дела спасения ближнего! Я взываю к здоровым элементам нашего общества: опомнитесь! Образумьтесь!!!»
Сообщить о подробностях своего невольного вояжа, о приюте, где он пробыл эти дни, о нравственных и физических потрясениях, которые ему пришлось испытать, в. Н. отказался. Не менее решительно отказался он и от судебного преследования своей похитительницы. Но негодование, переполнявшее его, нашло энергичное выражение в новом романе «Так жить нельзя!».
Исполненное негодующего пафоса, это пламенное воззвание 76-летнего старца, до тех пор известного умеренностью своих убеждений, произвело в Голландии впечатление, если позволительно так выразиться, разрыва бомбы замедленного действия. Переведённый почти на все литературные языки роман «Так жить нельзя!» получил всеобщее признание и вошёл в золотой фонд литературы, ставящей своей целью существенно повлиять на моральное переустройство мира. К сожалению, писателю не суждено было стать свидетелем победоносного шествия своего величайшего творения по странам Европы, Азии и Америки.
Потрясения, обрушившиеся на его организм, оказались слишком велики.
Впервые после благоразумно-длительного перерыва вывезенный на своей видавшей виды коляске солнечным апрельским утром на ту самую лужайку сада, откуда он был похищен год назад, писатель почувствовал чрезвычайное волнение. Натиск жгучих воспоминаний был так силён, что сердце его не выдержало. Корифея голландской литературы не стало...

Мэри-Бетси-Офелия Осборн родилась в г. Квебек (Канада) в семье главы одной из крупных североамериканских фирм «Электрик Пауэр Компани оф Канада» — известного Генри Осборна.
Характер и интеллектуальный склад Бетси-Офелии обращал на себя внимание окружающих ещё в годы её детства. Избегавшая игр и забав, чуждавшаяся общества сверстниц, задумчивая и хрупкая девочка не проявляла в то же время особого интереса ни к науке, ни к искусству, ни тем более к каким бы то ни было формам практической деятельности. К счастью для Бетси-Офелии, положение её семьи освобождало юную мечтательницу от необходимости избрания какого-либо определённого жизненного пути. Она могла вдоволь предаваться удовлетворению врождённой созерцательности и любви к чтению религиозно-мистической и оккультной литературы — единственной области человеческого знания, возбуждавшей её горячий, всё возраставший с годами интерес. Родные, всегда трепетавшие за здоровье Офелии, создали вокруг девушки не совсем здоровую атмосферу обожания и даже преклонения; за все годы своей молодости Офелия Осборн вряд ли слышала хоть одно слово протеста или запрета; только аскетический склад её натуры и врождённая склонность к состраданию спасли её от превращения в нравственно-бесконтрольное, не знающее удержу своим эмоциям существо, тирана всех окружающих. Но от преувеличенного представления о своей личности, от взгляда на себя, как на носительницу религиозной гениальности, исполнительницу некоего божественного замысла, пока ещё неясного ей самой — её не спасло ничто. Быть может, этот эгоцентризм и почти маниакальная исключительность способствовали также и тому, что личная жизнь Офелии Осборн не ознаменовалась появлением на её горизонте ни одного человека, который сумел бы пробудить дремлющие чувства женщины. Известно, что в 19-летнем возрасте О. О. переменила конфессию, навсегда порвав с традиционным протестантизмом своей семьи и примкнув к католичеству с такою пламенностью, что Генри Осборн был крайне обеспокоен перспективой ухода единственной дочери в монастырь. От этой опасности О. О. была спасена новым увлечением, на этот раз длившимся около десятка лет, — кругом идей, берущих своё начало в «La doctrine secrete» Блаватской.
Это увлечение вывело экзальтированную девушку из замкнутой сферы её прежних интересов и отношений: став членом Канадского отделения Международного теософического общества, О. О. почувствовала, как в ней пробуждается страстный интерес к религиозно-общественной деятельности. Связаны с этой деятельностью были и её многочисленные путешествия этих лет: в Соед. Штаты, где она сблизилась с Анни Безант, Кришнамурти и другими руководителями мирового теософического движения; в Зап. Европу, где она обстоятельно ознакомилась с жизнью и идеями антропософов в их «святая святых» — в Дорнахе; в Индию, где она принимала активное участие в устройстве теософического университета; и, наконец, в Палестину. Последнее путешествие, совершённое ею в 1930 г., оказалось поворотной точкой в её жизни и в руководивших ею идеях.
Посещение мест, связанных с именем основателя христианства, произвело на О. О. огромное, можно сказать — потрясающее впечатление. Пройдя совершенно безучастно мимо проблемы еврейской иммиграции, экономического возрождения Палестины, еврейско-арабских столкновений — мимо всего, что волновало страну в эту эпоху, О. О. провела год в Иерусалиме, погружённая в собственный внутренний мир, с этих пор обогащённый, по её словам, непосредственным общением с Иисусом Христом, якобы являвшимся ей в своём «эфирном теле» с тем, чтобы изустно восполнить и исправить через неё текст канонических книг христианства. Ближайшим видимым результатом иерусалимских медитаций явилась вышедшая через год в Бостоне книга «Провозвестие воскресения» — основной труд О. О., евангелие её последователей.
Напрасно, однако, стали бы мы искать в этом оригинальном произведении следов широкой филологической эрудиции, попыток объективно и научно исследовать текстологический материал канонических книг, наконец — хотя бы философски аргументированной теологической концепции. Это поток пламенных образов, вызывающий в памяти образцы апокалипсической литературы и поражающий вместе с тем некоторым новым качеством: чередованием взлетов ума с явно галлюцинаторными феноменами, глубоко-поэтических интуиции с какою-то религиозно-философской инфантильностью, проповеднического жара — с ребячески-примитивными тезисами, интересных иногда мистических построений — с грубым научным невежеством. Сильная сторона книги заключалась в её языке, местами поднимавшемся до уровня классических образцов пророческой литературы, а также в беспредельной, буквально гипнотизирующей читателя вере в себя и свою идею.
Идея же книги сама по себе сводилась к следующему. Старая христианская ортодоксия была права, рассматривая жизнь вочеловечившегося Логоса как образец для подражания; она была эпохально-ограниченна и не права, останавливаясь в этом подражании на полпути. Деянием Иисуса Христа, венчающим и придающим высший смысл всем его деяниям, было воскресение из мёртвых; именно этот акт и должен явиться завершающей ступенью в лестнице «подражания Христу». По мнению автора, физическая невозможность воскресения логически убедительна только для последовательного атеиста или, во всяком случае, не христианина; христианин же, верующий в воскресение Иисуса, только вследствие робости мысли и бедности воображения не простирает своей веры в чудо на область телесного воскресения человека. Если миллиарды людей в продолжение почти двух тысяч лет веровали и веруют в воскресение одного, то непонятно, почему, собственно, они не могут допустить возможности воскресения второго. Единственное возражение может заключаться только в том, что Христос был воплощением второй ипостаси, властным преодолеть законы материи, обязательные для человека. Но углублённое понимание смысла некоторых евангельских речений, как-то: «Будете, как ангелы и выше ангелов», «Говорю вам: вы — боги», слова о вере с горчичное зерно, двигающей горами, и многих других — доказывает, что уже четыре евангелиста вполне отдавали себе отчет в том, что для проявления высшей воли, называемого чудом, граница поставляется только пределами нашей собственной веры в мощь чудотворца. Это положение не могло относиться к воплощённому Логосу, неизмеримо превышающему силою чудотворения косность любых материальных законов, но всецело приложимо к человеку. Воскреснуть может тот человек, который абсолютно верит в это сам и чья сила поддерживается верою в него множества прочих людей.
Этот экстравагантный вывод, с помощью которого О. О. вооружала против себя не только ревнителей христианской догматики, но и всех обладателей здравого смысла, дополнялся цепью обескураживающих читателя вычислений: сколько именно верующих в воскресение какого-либо реального человека способны поднять его на крыльях этой веры и провести сквозь акт подлинного реального телесного воскресения. В систему вычислений были привлечены тезисы теософии и антропософии касательно жизненной силы «праны», излучений эфирного тела, астрального тела и т. п.; фантастические единицы, подвергнутые не менее фантастическим числовым операциям, приводили О. О. к непреложному выводу: для воскресения одного потребна, кроме его собственной «абсолютной веры», вера 1 миллиона человек.
Возвращение О. О. на Американский континент, почти совпавшее по времени с выходом в свет «Провозвестия воскресения», ознаменовало новый период её жизни: период бурной проповеднической и организационной деятельности, создания сперва небольшого братства, а затем — разветвлённой массовой секты, получившей наименование резуррекционистов (resurrectio — no-лат. означает — воскресение из мёртвых).
Американская почва, породившая в новейшее время такие религиозные формации, как движение мормонов, Christian Science и десяток других более мелких сект, основанных зачастую на идеях, непримиримо противоречащих и науке и здравому смыслу, оказалась достаточно благоприятной для усиления развития новой религиозной разновидности. Как в большинстве этих движений, успех и в данном случае зависел больше от личного обаяния проповеднических (а иногда и хозяйственных) дарований, наконец — от фанатической убеждённости самого основателя, чем от положительной ценности его учения. К тому же О. О. как моральная личность являла собою, бесспорно, образ более цельный, более соответствующий этическому уровню своего учения, чем Мэри Бэккер-Эдди или основатели Города Солёного озера. Самые яростные противники её учения — а таких противников выдвинули в короткий срок едва ли не все религиозные лагери и философские течения, существующие в настоящее время в Европе и Америке, — не могли отыскать ни в фактах её биографии, ни в укладе её жизни ничего, заставляющего заподозрить идеальность её побуждений. Её широкая филантропическая практика, ограниченность личных потребностей, возраставшая год от году суровость созданного ею для себя режима — всё это заставляло врагов Офелии Осборн забыть о своих попытках приписать её деятельности низменно-своекорыстный характер ловкого бизнеса. Не подлежит сомнению также и то, что безупречная нравственность, ещё увеличенная легендой и окружившая имя Офелии О. ореолом святости, способствовала популяризации движения резуррекционистов за пределами Америки.
Стремление руководства секты увеличить число последователей Резуррекционизма до миллиона человек в наикратчайший срок повело к колоссальному развитию пропаганды. Огромное личное состояние О. О. — единственной наследницы своего отца — равно как и состояние многих её приверженцев, позволили воспользоваться в этих целях органами периодической печати, услугами целой армии проповедников, писателей, журналистов, радиосетью и киноэкраном, кафедрой и трибуной, даже телевизором, не говоря уж о таких классически-американских видах агитации, как выступления уличных ораторов на импровизированных митингах посреди людных улиц. К концу второй мировой войны число резуррекционистов достигло 900 тысяч человек, и Общество приступило к сооружению в Скалистых горах особого здания, названного Обителью Воскресения (Resurrection Home). Облицованное снаружи белым мрамором, выдержанное в подчёркнуто простых пропорциях и строгих линиях «модерна» середины XX столетия, сооружение это представляло собой гигантский зал вместимостью до 50 тысяч человек, снабжённый органом, одним из крупнейших в мире. В центре зала возвышалось нечто, чему трудно было бы подобрать параллели в архитектурах каких бы то ни было религий: здесь, как бы на глазах всего человечества, О. О. должна была, по восполнению миллионного числа верующих, испустить дух и здесь же, по истечении трёх суток, восстать из мёртвых.
Постройка Обители Воскресения вызвала поток яростных протестов: негодующие католики объединились со всеми протестантскими течениями Америки в общем вопле о неслыханном кощунстве и профанации. В этих проклятиях и насмешках сливались голоса белых и негров, республиканцев и демократов, масонов и православных, иезуитов и евреев, материалистов и мистиков, реакционеров и прогрессистов. Здание во время постройки дважды повреждалось взрывами. Главный архитектор был убит неизвестными террористами — по-видимому, ку-клукс-клановцами. Несколько негров, принадлежавших к числу видных резуррекционистов, подверглись суду Линча. На саму О. О. было совершено покушение. Тем не менее защищаемое конституцией США чудовищное предприятие было доведено до конца, и в начале 1949 г. колоссальный золочёный купол увенчал одно из самых странных сооружений человечества. Весной того же года число резуррекционистов достигло, наконец, миллиона.
23 апреля 1949 г. — это была среда на страстной неделе — баснословное стечение народа превратило захолустный американский городок в эфемерное подобие Сан-Франциско или Чикаго.
О. О. должна была уйти из жизни сама, внутренним волнением своего духа, не дожидаясь вмешательства ни микробов, ни какого-либо внешнего, механического орудия смерти; в этом, по-видимому, она подражала уже не столько Христу, сколько Гаутаме Будде, скончавшемуся, согласно легенде, добровольно, угасив в себе волю к жизни. Накануне рокового дня О. О. подвергла себя всестороннему медицинскому обследованию, которое установило нормальный статус и отсутствие малейших признаков какого-либо заболевания, кроме малокровия и подагры. В 12 ч. дня в присутствии квалифицированной комиссии терапевтов, психиатров и физиологов, а также сотен журналистов, писателей, фото- и кинорепортеров и 80-тысячной публики (зал не мог вместить всех желающих, и толпа залила окрестную территорию) Офелия Осборн взошла на своё смертное ложе. После нескольких слов прощанья с человечеством, исполненных благости и кротости, она приняла горизонтальное положение и погрузилась в глубокую медитацию. Звуки органа чередовались с хоровым исполнением резуррекционистских гимнов, в котором принимали участие все верующие. На протяжении последовавших за этим суток О. О. вывела себя из медитативного состояния лишь раз, чтобы принять минимальное количество пищи: четыре сухарика и стакан воды. Вопрос о том, что же, в конце концов, явилось непосредственной причиной её смерти, остается открытым. Как бы то ни было, в четверг на страстной неделе, в 6 ч. вечера, Офелия Осборн подняла веки и, прошептав: «Отче! в руки твои предаю дух мой!» — скончалась.
Толпа преклонила колена, многие поверглись ниц. Свечи в руках 50 тысяч верующих затеплились, чтобы погаснуть лишь в момент преодоления основного закона органической материи.
Наступили дни напряжённого ожидания чуда. Орган продолжал звучать, чередуясь с хорами; тело усопшей, видимое всем собравшимся, продолжало покоиться в прежней позе на своем возвышении. Миновало трое суток; покойница не подавала никаких признаков жизни. Часы текли; глухое волнение начинало охватывать массы верующих; иронические высказывания стали замечаться среди любопытствующих. Наконец, по истечении четырех суток президент Международного Общества Воскресения Мёртвых Иезекииль Уотерс прервал музыкальное сопровождение затормозившихся событий, обратившись к верующим с глубокомысленным словом. От имени руководителей резуррекционистской церкви он объявлял, что случившуюся задержку можно объяснить лишь одним — неполнотой веры.
«Ясно всякому, — сказал преп. Уотерс, — что среди миллиона формально вступивших в число последователей истинного учения нашлось некоторое число душ, не имевших подлинной горячей веры в великое дело. Не руководствуясь, конечно, дурными намерениями, они, тем не менее, нанесли этому делу удар, не поддержав его в час великого испытания всею силою своего духа. Нам ещё не дано знать, — закончил вдохновенный оратор, — скажется ли эта духовная неполнота лишь на сроке воскресения великой праведницы, несколько его отодвинув, или же воскресение станет для неё в настоящее время невозможным — невозможным вплоть до того мгновения, когда миллионное число восполнится не формально, а духовно. Поэтому верующим предстоит отныне обратить все свои силы на очищение собственных душ, на освобождение их от малейших остатков парализующего сомнения, а также на воспитательном и проповедническом труде, преследующем цель не столько количественного, сколько качественного роста церкви».
Эта речь Иезекииля Уотерса нашла широчайший отклик в сердцах резуррекционистов, утвердив их веру на новых основаниях и влив в них силу, необходимую для мужественного и достойного перенесения града насмешек и издевательств, бури глумлений и поношений, разразившихся над последователями новой церкви.
В короткий срок над смертным ложем О. О., внутри Обители Воскресения, была воздвигнута усыпальница, и тело покойной герметически выделено из пространства, обитаемого живыми. Вокруг усыпальницы продолжалось непрерывное богослужение, странное святилище продолжало сиять в блеске неугасимых свечей; орган не должен был умолкать ни днем, ни ночью, и паломники со всех концов Сев. Америки и даже из Старого Света продолжали стекаться к этой своеобразной Кааббе. Церковь резуррекционистов продолжает существовать, свидетельствуя, что развитие трезвого научного мироотношения в середине XX столетия нисколько не препятствует возникновению мистических верований и фантастических идей, ни их расцвету (во всяком случае, в Новом Свете).
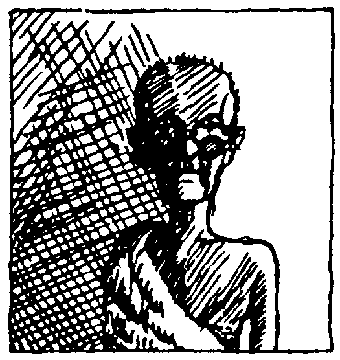
Рамадас Авалокитешвара-Чхандогия родился в поместье Балярампур на берегу р. Ганга, вблизи города Бенареса. Обстановка старинной браминской семьи, проникнутая философскими интересами и преданиями индуизма и в то же время не чуждая некоторым формам умственной европеизации, определила в значительной степени те элементы, из которых сложилось миросозерцание Р. Отец его, поэт Ауробиндо Рамадас, пользовался в своё время широкой известностью благодаря своим переводам на бенгальский язык лучших образцов английской и французской поэзии, а также благодаря собственному сборнику лирики «Гирлянда Ханумана».
Сыну он дал превосходное домашнее образование, несколько односторонне, впрочем, воздействовавшее на впечатлительного мальчика своей религиозно-нравственной и содержательно-эстетической стороной. Позднее Р. совершил четыре путешествия в Европу, где установил дружественные связи с рядом выдающихся деятелей, боровшихся за культурное сближение Востока и Запада, в частности с Роменом Ролланом. Известно также, что умственная жизнь молодого Р. была осложнена длительными увлечениями естественными науками, в особенности зоологией, которую он изучал в продолжение трёх семестров на естественном факультете в Кембридже.
В 1891 г. Р. выступил перед индусской общественностью с капитальным религиозно-философским трудом «Покровительство животным как основа общечеловеческого единения». В последующие годы, обосновавшись в Калькутте, Р. сближается с обществом «Брахма самадж» и религиозно-философским обществом «Ramakrischna mission», на посту председателя которого он пребывает, с небольшими перерывами, от 1901 до 1912 г. В эти же годы возникает его дружба с великим Р. Тагором. Известно, что Тагор чрезвычайно высоко ценил нравственный облик Р., называл своего друга «великим молитвенником за всех бессловесных». В этот период Р. опубликованы два основных исследования. Если одно из них — «Животная символика в новейших течениях индуизма» — доказывает, как глубоко и всесторонне овладел автор исследовательским методом сравнительной религиологии, то второй из этих трудов, всецело относящийся к образцам нравственно-философских сочинений, свидетельствует с не меньшей выразительностью об оригинальном направлении, в котором работала настойчивая мысль нашего писателя. Уже заглавие этого труда говорит само за себя: «Идея сострадания к паразитам как веление человеческой дхармы, согласно учению Могавиры».
Повышенный интерес к подобным вопросам приводит Р. к признанию недостаточности тех мероприятий, которые проводились в указанном направлении существовавшими доселе организациями, и следующий период деятельности Р. ознаменовывается горячим и неустанным участием его в деле устройства госпиталей и богаделен для животных. В особенности широкой, можно даже сказать, всемирной известностью пользуется учреждённый им в городе Нагпуре санаторий для кобр.
Новейшие достижения европейской науки в области консервирования крови открывают перед неутомимым апостолом любви к животным новые горизонты; в 1931 г. им организуются добровольный «Всеиндийский союз доноров-паразитофилов» и «Ассоциация общественной помощи насекомым», ставящая своей задачей создание и поддержку особых приютов для престарелых блох и клопов.
Этот период оказывается для Р. весьма плодотворным также и в литературном отношении: с 1912 по 1932 г. им опубликовано свыше 120 брошюр и статей, об общем характере которых может дать представление заглавие одной из них: «Молитва и её значение для преодоления трудностей в деле зубоврачебной помощи крокодилам». Однако тип позвоночных меньше интересует Р., — быть может, вследствие того, что облегчением участи этих животных всё-таки занимаются уже многие учреждения. Больше всего привлекает его этическая проблема взаимоотношений между человеком и паразитами, этими, как он выражается, «обречёнными и всеми гонимыми существами, ниоткуда не получающими помощи и гибнущими без ропота и жалоб в неравной борьбе».
Даже описанных выше, несколько чрезмерных с нашей точки зрения усилий оказывается недостаточно для строго-последовательного мыслителя. В 1935 г. Р. выступает перед экзальтированной аудиторией своих адептов с несколько странною лекцией на тему о том, что человечество, испокон веков истребляющее паразитов триллионами, может искупить своё злодеяние, только принеся себя в добровольную жертву потомкам собственных жертв. Полемизируя с Ганди, он утверждает, что практическое осуществление этой истины является миссией Индии и указывает на то, что психологический склад и религиозно-нравственный уровень индийского народа позволяют уже в наше время превратить в реальность эту «высочайшую мечту».
Столь экстравагантный, мы бы даже сказали, болезненный уклон мысли оказался для престарелого философа роковым: в 1938 г. в Нагпуре, при обширном стечении публики, Р. дал себя заживо съесть потомкам тех, кого бесчеловечно уничтожали его предки.

Хитроумный и дальновидный, ловкий и великодушный Тачибана Иосихидэ чертами лица и миниатюрной фигурой напоминал обезьяну. Ласковое прозвище Обезьянка закрепилось за ним с детских лет, и под этим именем он жив в народной памяти до сих пор. XVI столетие явилось эпохой наибольшего развития центробежных сил внутри Японского государства. Авторитет сеогуна пал; властолюбивые феодалы вели нескончаемые войны друг с другом, стремясь захватить столицу, чтобы повелевать страной от имени сеогуна или императора.
В 1525 г. у одного бедного крестьянина, в маленькой деревушке вблизи Нагой (область Овари), в день Нового года, с первыми лучами солнца, родился мальчик, получивший имя Хиёси, в честь бога Света. Земледельческий труд не привлекал мальчугана. Он предпочитал военные игры с деревенскими ребятами, нередко портя при этом огороды и рисовые поля. А когда отец решил отдать его в буддийский храм, двенадцатилетний Хиёси бежал из дому. Три года бродил он по стране; был и дворником у самураев, и приказчиком у купцов, и продавцом в лавке. Однажды весеннею ночью он беспечно улегся спать на мосту через речку Янаги, прикрывшись только рогожей. Случилось так, что один из «свободных самураев», главарь шайки, Хачисака Гороку, проходя по мосту, наступил в темноте на мальчика. Вскочив, рассерженный Хиёси выхватил пику из рук Хачисаки и отчитал его за неучтивость. Хачисаку позабавила смелость мальчишки, и Хиёси был взят в шайку. Там он встретил своего товарища детских игр Томаичи, мечтавшего, как и Хиёси, стать первым лицом в стране. Через полгода они ушли из шайки вместе и, расставаясь, условились встретиться не раньше, чем станут первыми людьми Японии. Хиёси временно приютился в храме, где священником был его дядя.
Оота Наганобу, князь этой области, был молод, храбр, талантлив, вспыльчив, но отходчив. Его чудачества и причуды сделали имя его известным далеко за пределами области Овари. Однажды князь, после целого дня охоты, попал в тот храм, где нашёл приют Хиёси. Князь потребовал чаю. Мальчик налил чашку и поднес её высокому гостю. Князь выпил чашку залпом и потребовал вторую, оказавшуюся горячее и гуще первой, потом третью — ещё более густую и ароматную.
«Это ты приготовил?» — спросил князь. «Так точно». — «А почему ты так точно похож на обезьянку?» — пошутил князь Оота. «Это обезьяна похожа на меня, ваше сиятельство», — ответил мальчик. Ответ понравился князю, и Хиёси был взят к нему на службу конюшенным и блюстителем княжеской обуви. Никто не знал, когда понадобится чудаку князю лошадь и обувь для его внезапных выездов, но Хиёси угадывал это каким-то чутьем. Обувь и лошадь всегда были в порядке, и князю нравилось, что маленькая фигурка «обезьянки» всюду сопровождает его.
В 1542 г. соседний князь Имакава Мотоёси с десятитысячным войском вторгся в область Овари, стремясь пробиться к столице государства. Тревога охватила княжеский замок; не потерял спокойствия только сам князь Оота. Даже вечером, когда пришла весть о захвате врагом главной крепости, князь продолжал развлекаться игрою на флейте и пляской. Но рано утром он был уже на ногах и, выйдя во двор замка, увидел Хиёси и готовую лошадь. Достигнув через два часа храма Айчи, он вознес молитвы богу Войны и быстро собрал небольшое войско (около 500 человек).
По деревенским тропинкам отряд бросился навстречу врагу и вечером, воспользовавшись долго собиравшейся грозой, молниеносно обрушился на лагерь князя Имакава, беспечно отдыхавшего в долине. Имакава был обезглавлен, его войска обращены в бегство. В эту минуту появилась шайка Хачисаки с Хиёси во главе, пока князь Оота молился в храме Айчи, Хиёси успел поднять своих бывших друзей. Шайка напала на обоз неприятельской ставки и перерезала запасному отряду дорогу на помощь. Князь Оота наградил всех членов шайки, и Хиёси был произведён в самураи и сделан командиром отряда из 25 человек. Отныне он принял имя Киносито-Тосичиро Иосихидэ, а солдатами в свой отряд он взял старинных товарищей своих игр из родной деревни.
Всё возраставшими успехами, как на войне, так и в делах администрации и хозяйства, Иосихидэ был обязан своему усердию и уму. Обладая ловкостью и юмором и хорошо изучив характер князя Оота, он пользовался его неизменной любовью и с каждым годом поднимался по ступеням военных чинов и придворных званий.
Северным соседом князя Оота был сильный и богатый феодал князь Сайте, владевший областью Мино; границей между владениями обоих князей служила большая река Исо. В продолжение многих лет князь Оота пытался воздвигнуть на самом берегу реки сильную крепость, но это не удавалось ему, так как каждый раз, едва строительные работы развертывались, северяне нападали на постройку и разрушали её до основания. Однажды князь Оота сказал в шутку своему любимцу: «А не хочешь ли, Обезьянка, стать начальником крепости? Займись этой постройкой!» — «С радостью», — ответил Иосихидэ совершенно всерьёз.
И вот в одно хмурое майское утро северяне, к немалому своему изумлению, увидали сквозь рассветный туман на другом берегу реки Исо, ещё вчера совершенно пустом, могучий замок. Его чёрные кровли и белые стены грозно возвышались над речною кручей, а золочёный гребёнь в форме рогов — заклятие от злых духов — венчал здание. Вооружённые фигуры часовых различались повсюду: граница охранялась и непонятным образом, за одну ночь, была укреплена. Растерявшиеся северяне прекратили нападения. И никому из них не пришлю в голову, что это лишь декорация из бамбука, досок, бумаги и рогожи, а по ту сторону декорации кипит работа. Солдаты, крестьяне окрестных деревень и их батраки с лихорадочною поспешностью сооружали настоящий укреплённый замок; ни один солдат не был даже оставлен на карауле, а те, кого принимали за пограничную стражу северяне, были всего только женщины с детьми в соответствующих нарядах. Через неделю замок был построен, декорация брошена в реку, а Иосихидэ назначен начальником новой крепости. С этого времени присвоив себе новую фамилию Масиба, он, по примеру других японских полководцев, учредил своеобразное боевое знамя: оно было украшено золочеными бутылочками из тыквы, по числу одержанных им побед. Каждая новая победа знаменовалась новой бутылочкой, а победы всё множились и множились, ибо И. умел привлекать к себе сердца самураев и солдат, а ум его и хитрость подсказывали ему нововведения в тактике и во всевозможных ухищрениях на поле боя.
По мере того как князь Оота расширял свои владения и становился могущественнейшим феодалом в Центральной Японии, знамя И. начинало сгибаться под тяжестью золотых тыквочек. Наконец, в 1565 г. Оота вступил в столицу Киото, став фактическим повелителем большей части страны. Император принял его во дворце и пожаловал титулом Министра Правой руки, а И. был возведен в звание князя.
Три года спустя, покоряя Западную Японию во главе двенадцатитысячной армии, И. осадил сильно укреплённый замок Акамацу, построив плотину, при помощи которой вся окружающая местность была затоплена. Но в городе Осака, куда князь Оота вошёл со своим сыном-наследником, чтобы руководить кампанией, их обоих подстерегала гибель. Князь Такечи Хидемицу, надменный аристократ, которого Оота не любил за педантизм и неловкость и наконец поставил под начальство Обезьянки, поднял бунт и убил своего сюзерена вместе с его сыном. Иосихидэ получил эту страшную весть в своем лагере перед полузатопленным замком Акамацу. Стояла ночь полнолуния. Погружённый в свои мысли, И. бродил по берегу образовавшегося озера. Таинственная плачущая мелодия бамбуковой дудочки зазвучала с башни осаждённого замка; казалось, что поёт луна. Но когда очарованный музыкой И. приблизился к замку, вероломная пуля — «анега-сима» — просвистела около самого его уха.
Утаив гибель князя Оота от своих войск, И. продолжал осаду. Через два дня начальник замка капитулировал и в лодке перед ставкою победителя честно совершил харакири.
На помощь побеждённым приближались сильные войска другого князя, но И. немедленно послал к нему парламентера с сообщением о смерти князя Оота и с требованием — от имени всего самурайства — перемирия для отдания похоронных почестей покойному и для возмездия изменнику. Едва перемирие было заключено, И. помчался в Осаку, приказывая всюду по пути заготовлять воду и продовольствие для движущихся за ним войск. Проделав 100 ри (400 км) в три дня, он достиг города и с быстротою духа приготовил всё, что было необходимо для решительной битвы с изменником Хидемицу. Особенное значение имели изобретённые им боевые повозки, предварявшие танки нашего времени: то были ручные телеги, обшитые жестью, и с деревянными трубами для фейерверка. Генеральное сражение произошло между Осакой и столицей Киото. Потрясённый быстротой действий И., обессиленный всеобщей к себе ненавистью и вдобавок обескураженный видом «танков», Хидемицу пал духом, обратился в бегство и по пути был убит крестьянами.
Таким образом, из множества вассалов князя Оота только один Обезьянка, находившийся в далеком походе, смело и энергично выполнил свой долг мщения. Это выдвинуло его на первое место среди феодалов и это же возбудило их зависть. Но, быстро и ловко организуя коалиции то против одного, то против другого, И. разбил и подчинил своих врагов одного за Другим. К 1578 г. И. стал, наконец, первым лицом в Японии, фактически сосредоточив в своих руках военную и гражданскую власть. Столетние междоусобия прекратились. Народ возвращался к труду.
Но и первый человек в государстве должен был в эту эпоху, чтобы удержаться на достигнутой высоте, признать превосходство императора. Микадо сохранял власть номинально и озарял подлинных правителей блеском своего вечного ореола. Поэтому И. прежде всего воздвиг в загородной местности роскошный дворец, названный Дзюраку («коллекция наслаждений»), и пригласил туда микадо со всем его двором. Подобного шествия Япония не видала уже свыше двухсот лет. Великолепие процессии было таково, что народ, повергаясь ниц, рыдал от восторга и благоговения. Во дворце Дзюраку И. принес императору торжественную присягу, а во время пиршеств, продолжавшихся три дня, сам исполнил древнюю военную пляску. Растроганный микадо пожаловал ему высший титул «регента — верховного министра» и славную старинную фамилию «Тачибано»: так называется особый род миндаля, ароматного и дарующего долголетие.
Разумеется, постройка дворца Дзюраку была только началом, за нею последовали: сооружение колоссального замка Осака, в котором принимали участие все князья, и памятниками их соревнования доныне остаются огромные камни знакомых стен; сооружения большого канала Осака — Цуруга — через Центральную Японию; постройка знаменитого буддийского храма Дайбуцу в городе Нара, причём у исполинского бронзового будды VIII в., помещённого в храм, была реставрирована голова, расплавившаяся от огня в эпоху междоусобий. Во время работ на горе Ооэ были обнаружены залежи руды, при плавке которой получили белый нержавеющий металл (то был никель). Отлитые из него громадные колокола были розданы храмам во всех областях Японии, и самый большой из них, диаметром 10 м, до сих пор хранится в Киото.
Не менее важно было покровительство, которое И. оказывал торговле, особенно внешней, построив большой торговый флот. А в области финансов он прибегнул к остроумному, хотя и несложному средству, поднявшему доход казначейства в несколько раз. Средство это заключалось в выпуске монеты огромной величины, в десять раз больше обыкновенного кабана; сто таких монет помещались в специальный ящик, запечатанный печатью главного казначея. Никто не мешал, таким образом, казне выпускать монету, полую внутри, и, запечатывая её в тяжелый ящик, заставлять принимать её как полноценную.
В молодости И. был лишён возможности учиться. «Подписать своё имя — вот грамота!» — говаривал он тогда. Тем больше достоинства видят японские историки в том, что, будучи малограмотным, он оказывал покровительство наукам и искусству. Он восстанавливал разрушенные памятники, собирал коллекции художественных изделий, а во дворце Дзюраку были учреждены библиотека, музей, театр и художественные мастерские. Он охотно принимал католических миссионеров, появившихся в то время в Японии, построил для них церковь в столице, в 1590 г. отправил с ними в Европу четырех японских мальчиков для ознакомления с далёкой чужой культурой.
Среди японской знати того времени распространялся своеобразный обычай чаепитий в утончённой обстановке, преимущественно в специальных изящных беседках, расположенных в саду или вообще в красивой местности. И. принялся ревностно изучать этикет этих чаепитий, этот обряд, доведённый до уровня настоящего искусства, — так называемый «садоо». Наставником правителя был глубочайший знаток этих церемоний Кон-но Рисю. Однажды, когда И. хвалился перед учителем чистотою чайной беседки и хорошо подметённых дорожек, ибо считалось, что чистота — важнейший элемент «садоо», Рисю молча вышел в сад и потряс два-три деревца. Пурпуровые и бледно-розовые осенние листья осыпали газон. И внезапно И. стало ясно, в чём заключается подлинное «садоо».
Между тем многие богачи, видя, чем увлечен верховный министр, начали приобретать драгоценную утварь, роскошную посуду и отягощать утончённо простой обычай показною пышностью. И вот И. пригласил однажды нескольких знакомых людей на чаепитие в небольшой буддийский храм. Храм этот был издавна известен необыкновенно красивой расцветкою осенней листвы деревьев около здания и живописным рельефом окружающей местности. И. встретил гостей на крыльце храма, одетый в скромное платье простого старика, с колпачком на голове. Он провёл их внутрь здания, раздвинул окна в сторону горы Такао, одни склоны которой предстали огненно-красными, другие — янтарно-жёлтыми, и приготовил чай. К чаю были поданы лишь кое-какие сласти. Не дождавшись ничего другого, гости невольно выдали своё недоумение и разочарование. И только Рисю, великий знаток «садоо», испытал глубокое удовлетворение, убедившись, что И. вполне проникся чистой и изящной мудростью этого искусства. Он воскликнул: «Вот это — истинный дух «садоо»!
В это время широкою известностью в Японии пользовался неуловимый разбойник Нисикава Рокуэмон. Он никого не убивал, грабил только богачей и казну, а награбленное раздавал бедным. Наконец этот Нисикава осмелел до того, что наклеил на ворота дворца Дзюраку открытое письмо к И., требуя крупного пожертвования в пользу бедных.
Несколько дней спустя телохранители И., уснувшие глубокой ночью в его покоях, внезапно были разбужены звонкой игрою музыкальной шкатулки. Эта драгоценная шкатулка была подарена хозяину иезуитскими миссионерами; но почему она заиграла сама ни с того ни с сего тёмной ночью? Музыка удалялась. Бросившись вдогонку, телохранители заметили человеческую фигуру, пытавшуюся спастись бегством. Вор оказался знаменитым Нисикавой. Незнакомый с назначением музыкальной шкатулки и прельстившийся лишь её видом, он в первый раз в жизни попал впросак. Допрашивать задержанного решил сам И.
— Ты забыл меня, Хиёси! — молвил разбойник. — Мы были товарищами: я — Томаичи, и сегодня — то самое свидание, о котором мы условились когда-то, ты стал первым лицом света, а я — тьмы! Ты — представитель знати, я — друг народа. Но своей славе ты принес горы жертв, а я никогда не проливал крови.
— В твоих словах — доля правды, — сказал И., — но в Японии теперь тебе уже нет места. Ступай в новый мир! — И он выслал Нисикаву с женою и сыном на остров Тайвань, в то же время открыв беднейшей части народа казённые склады продовольствия.
В дни своей молодости И. любил сестру своего сюзерена князя Оота, но, сознавая подчинённость своего положения, он это чувство подавил в душе. Позднее он женился на дочери своего товарища по военной службе и был добрым мужем, хотя жена не принесла ему ни одного ребёнка. Но когда он узнал, что одна из дочерей-сироток некогда обожаемой им сестры князя Оота стала блестящей красавицей, сердце его задрожало, как у двадцатилетнего юноши. Призвав на помощь всю свою хитрость, опытность и настойчивость, он преодолел все препятствия, и молодая красавица стала его второй женой. Когда же она родила ему сына, он почёл себя счастливейшим человеком на свете.
Теперь, когда в стране всё стало спокойно, И. начинал подумывать о восстановлении славы японского оружия. Страна Кимос, расположенная на недалеком от Японии полуострове, издавна была связана с нею дружественными сношениями. Эти сношения оборвались вследствие длительных японских междоусобиц. В 1591 г. И. отправил в государство Кимос посольство с предложением восстановить старую дружбу. Но государство Кимос уже подпало под влияние сильной северной державы Шаор; король Ер Син ответил японскому послу отказом и притом в столь оскорбительной форме, что И. почёл за лучшее направить в страну Кимос экспедиционный корпус. Кимосские войска, в дружном взаимодействии с шаорскими волонтерами, вели оборонительные бои, заставляя противника нести огромные потери в живой силе и технике, будучи, однако, не в силах бороться против изобретённых И. танков. Уже один вид этих тележек, тарахтящих по полю, сверкающих на солнце своей жестяной обшивкой и то и дело запускающих фейерверк, повергал кимосские войска в панику. С помощью танков 1-я самурайская армия заняла город Хено-Янт, а 2-я армия через Санш-Сон вступила в Южную часть Шаор, где захватила в плен двух кимосских принцесс — Синей и Сики. На море флот И. потопил флот противника около острова Жеджело, где, говорят, на его стороне сражались также корабли изгнанника Нисикавы Рокуэмона. Король Ер Син просил о мире. Переговоры начались в городе Сойке, в атмосфере взаимного понимания. Но когда делегаты противной стороны предложили И. окончательный текст мирного договора, оказалось, что в этом документе нашли место совершенно абсурдные формулировки. Там значилось, например, что мира будто бы просил не кимосский король, а И., за что ему присваивался, вопреки здравому смыслу, титул «японского короля» и жаловался орден «Любителей безмятежной тишины и неомрачаемого спокойствия». Взбешённый И. разорвал текст договора, выгнал делегацию и возобновил военные действия, но внезапно заболел и в 1597 г. скончался. Экспедиционная армия пала духом и эвакуировалась на родину в следующем году.
В эпическом произведении «Тайкоо ки» повествуется о смерти И. следующее. Когда постройка большого замка Осака была почти закончена, солнце уже закатывалось, но, глядя на своё грандиозное сооружение, И. почувствовал, что на свете нет ничего для него невозможного. «Завоевания и совершенствование природы, — возгласил он, — являются делом начальствующих лиц. В этом отныне мой долг перед народом. Остановись, солнышко, помоги!» И золотым вечером он подозвал великое светило. Совершилось чудо, солнце вернулось в зенит, и постройка была закончена в тот же день. Но за эту непочтительность по отношению к солнцу И. был наказан убийственной горячкой. Его комнату наполнил нестерпимый жар; медицинский персонал героически выполнял свой долг в одних набедренных повязках; а когда И. опустили в холодную ванну, вода странно забулькала, оказалось, что она уже кипит.
Впрочем, эти факты недостаточно всесторонне ещё изучены нашими историками.
После смерти И. капризный характер его высокомерной вдовы и своеволия её фаворитов оттолкнули от сироты-наследника верных князей и полководцев. Их постепенно перетянул на свою сторону осторожный, терпеливый и умный старик князь Токигава. В 1602 г., после ряда военных столкновений, пал замок Осака, и вся династия Тачибана погибла. Власть перешла к роду Токигава, сумевшему удержать её свыше двух с половиной веков.
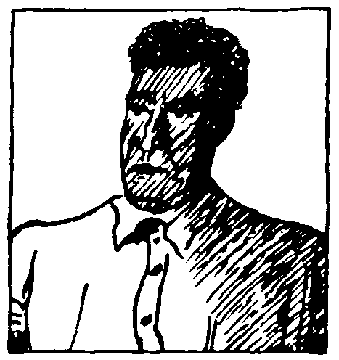
Молодые годы Бенито Умберти, позднее заставившего так много говорить о себе архитектурные круги Европы, не ознаменовались никакими выдающимися творческими достижениями.
Специализировавшийся на проектировании частных загородных вилл для представителей деловых кругов Италии, архитектор проявил себя как убеждённый последователь школы Корбюзье. Художественное оправдание своим сооружениям, расположенным в загородной местности, он стремился найти не в гармонии между ними и пейзажем, а, напротив, в максимально резком противопоставлении их силуэтов, соотношении их масс, их архитектурных элементов, их облицовки и расцветки окружающей природе.
Эстетическая мода 20-х гг. нашего столетия всецело определила собою творческую манеру Умберти; теперь, по прошествии нескольких десятилетий, эти фешенебельные виллы в Палермо, на Кипре, в окрестностях Неаполя, на Ривьере производят странное и подавляющее впечатление сухостью своих линий, резкой подчёркнутостыо урбанистического начала, мертвенно-мрачным цветом своих стен, — всем тем, что в двадцатых годах воспринималось как высшее проявление вкуса, культурности и ума. С каким-то угрюмым вызовом выделяясь на фоне неба, многокрасочной земной поверхности и ослепительного моря Италии, эти здания кажутся нашей эпохе порождениями абстрагирующей кабинетной мысли, потерявшей связь с жизнью и вкус к ней. Нам странно, что в то недавнее время обитание в этих мёртворожденных сочетаниях голых геометрических форм могло представляться высшей ступенью благополучия.
Постройка подобных вилл для богатых заказчиков привела к тому, что в руках архитектора вскоре оказалось значительное состояние.
Неразработанность биографических материалов и отсутствие сколько-нибудь обстоятельной монографии, посвящённой У., мешают нам уяснить, какими путями и под влиянием каких жизненных явлений мысль этого художника пришла к парадоксальным выводам, определившим второй, последний период его деятельности. Однако некоторые указания мы можем почерпнуть в его собственной книге «Жилище как орудие физического воспитания» — единственной теоретической работе, оставленной им потомству. Во введении к своему труду автор, между прочим, говорит следующее: «Обстоятельства моей жизни и работы способствовали тому, что при выполнении заказов для наиболее состоятельных представителей нашего общества я имел возможность всесторонне ознакомиться с укладом жизни, с будничным бытом этого круга, с характером времяпрепровождения, привычками и наклонностями, в нем господствующими. Я не хочу делать мрачных прогнозов. Ещё менее стремлюсь я очернить или принизить уровень умственного развития и эстетической утонченности людей этого блистательного мира. Именно горячее желание удержать этот общественный слой от движения по нисходящей, оградить его от ужасов деградации, способствовать его физическому и волевому оздоровлению стало руководящим началом моей профессиональной деятельности».
Это откровенное признание человека, сознательно отдающего свой талант на службу магнатам крупной собственности и с каким-то, сказали бы мы, наивным цинизмом полагающего смысл своей жизни в работе на пользу узкого круга баловней судьбы, достаточно характерно само по себе. Но что же, собственно, предлагает У. для спасения капиталистической верхушки от «ужасов деградации» Какую панацею измыслил этот изолированный от своего народа эстет, этот поборник привилегированной касты?
Исходный тезис У. заключается в мысли, будто бы жилой комплекс должен быть не просто местом повседневного пребывания человека, но именно в силу того, что он является жизненной средой людей в продолжение большей части суток, он призван максимально способствовать физической и нервной закалке своих обитателей. Если до сих пор усилия строителей направлялись на создание в жилом доме максимума комфорта, то отныне эти усилия следует направлять на почти противоположную цель: сконструировать жилище таким образом, чтобы каждый шаг, каждое движение обитателя наталкивались бы на физическое препятствие. Именно преодоление этих препятствий должно было, по мысли У., стимулировать всестороннее развитие мускулатуры, повышение жизненного тонуса, закалку нервной системы, укрепление воли. Всё здание понималось как своеобразный физкультурный комплекс, как сильное средство пробудить в изнеженном буржуа вкус к жизни и бесстрашие перед препятствиями. Такова глубоко реакционная сущность теории У.
Хорошо известно, как часто в эпоху упадка господствующего класса реакционные течения в искусстве облекаются в мнимо-революционную форму. Эта закономерность блистательно подтверждается и на примере теории У., или, как он называет её, «стиле гимнастико». Сверхфутуристический интерьер, ультралевое понимание и использование пространства, превращение дома в комбинат самых рискованных аттракционов, а всей жизни хозяев и слуг — в непрерывную цепь замысловатых трюков — таков рецепт, предлагаемый У. для того, чтобы повернуть вспять колесо социально-исторических процессов.
Понимая, что вряд ли он сыщет в Италии охотников пустить на ветер своё состояние ради осуществления подобного плана, У. решается построить в стиле «гимнастико» виллу для самого себя. Затраты его не смущают. Покупается участок в самом фешенебельном районе Капри. Здание приподнимается над землёй и опирается на четыре наклонно стоящие фермы, напоминая своим экстерьером гимнастического коня. Этот несуразный силуэт делается господствующим над одним из чудеснейших уголков Италии. Но главное заключается в интерьере здания. Этот интерьер, жизнь архитектора в необычайной обстановке и вскоре затем его смерть попадают на некоторое время в центр внимания итальянской общественности. Поднимается буря насмешек, рождаются анекдоты, возникают целые легенды о хозяине виллы Гимнастико и о его приключениях внутри собственного обиталища. Каково же устройство этого обиталища в действительности?
Первый шаг посетителя, едва переступившего порог виллы, предупреждает его, что здесь следует быть настороже; панели, составляющие пол, начинают вдруг выскальзывать из-под его ног, двигаясь взад и вперёд, подобно тому, как это практикуется в низкопробных аттракционах Луна-парков. Ступени лестницы приходят в движение, едва нога человека опускается на первую из них. Они ёрзают справа налево и слева направо, в то время как перила предательски ныряют вниз, как только вы пытаетесь сохранить равновесие при их помощи. Понимание пола как ровной поверхности для спокойной ходьбы объявляется устаревшим: взамен него создаётся бесформенное нагромождение глыб разной величины, преодоление которых должно повседневно укреплять мускулатуру икр, бёдер и поясницы. Дверь, которую вы слегка толкаете вперёд, с неестественной быстротой устремляется в противоположном направлении, грозя расшибить вам лицо: это должно способствовать развитию вашего самообладания и находчивости. Когда вы заносите ногу, чтобы перешагнуть несуразно высокий порог при входе в гостиную, этот порог внезапно проваливается, и вместо него перед вами оказывается зияющая пустота, причём сверху молниеносно спускаются гимнастические кольца: уцепившись за них, вы можете, наконец, лопасть в помещение для приёма гостей, кстати поупражняв мышцы ваших рук, плеч и лопаток. Но вот опасное путешествие кажется оконченным: выбившись из сил, вы пробрались в гостиную и опускаетесь в низкое комфортабельное кресло. Но едва пружины кресла подаются под вашей тяжестью, как мощная струя леденящего ветра охватывает ваше разгорячённое тело: этим способом ваш организм должен приучаться к резким сменам температуры.
Наиболее экстравагантный номер был, однако, припасён хозяином для подступов к его собственному кабинету. По мысли архитектора, посетитель, измученный всеми мытарствами виллы Гимнастико, должен был тем глубже прочувствовать сладость заслуженного отдыха в хозяйском кабинете. Эта комната отвечала всем современным требованиям самого изысканного комфорта. Но вход в неё имелся лишь один, и гость, не решившийся преодолеть этих последних испытаний, принуждаем был возвратиться к исходной точке своего путешествия, не получив даже насущно необходимой передышки. Кабинету предшествовал довольно обширный зал, около семи метров высотою, во всю свою ширину украшенный глубоким водоемом. Вход, или, вернее, влаз, в кабинет виднелся в противоположной стене, на высоте четырех метров над водой. Это было отверстие без двери, с небольшою, лишённою перил площадкой перед ним. Для того чтобы достигнуть этой площадки, следовало воспользоваться подобием пожарной лестницы, поднимающейся к потолку сразу же подле двери, через которую вы вошли в зал, загибающейся под прямым углом над водоемом, проходящей горизонтально под самым потолком и спускающейся затем к воздушной площадке перед отверстием кабинета. Таким образом, посетителю предлагалось совершить часть путешествия повисая на руках и перебирая ими металлические перекладины, в то время как тело его качалось в воздухе без всякой опоры. При этом его должна была утешать мысль, что в случае падения несчастье ограничится простым купаньем в холодной воде.
Естественно, что не только постройка, но и обслуживание подобного жилища требовало огромных затрат. Известны колоссальные, прямо-таки баснословные оклады, которыми У. привлекал к себе тех, кто составил штат его прислуги. Известно также, что ему не удалось найти человека, согласного обслуживать его кабинет; поддержание порядка в этом таинственном покое осталось неприятной, хотя, быть может, и оправданной в качестве наказания обязанностью хозяина.
Нас не должно удивлять, однако, что в Италии нашлись пресыщенные, жаждущие острых ощущений бездельники, усмотревшие в выдумках У. новый способ щекотанья нервов и насыщения жизни призрачным содержанием. Не говоря о Габриэле Д'Аннунцио, со свойственной ему страстностью выступившем на защиту «стиля гимнастико», и генерале Иниго ди Виченца, не решившимся, правда, лично посетить виллу Умберти, но выражавшим сочувствие его идеям, приходится упомянуть о графе Чиано, который часть одной из своих вилл оборудовал согласно указаниям У.
Но более широкого признания своих идей архитектору не суждено было дождаться: в ноябре 1932 г., преодолевая препятствие по пути в свой кабинет, он сорвался с потолка и, падая в водоем, ударился затылком о ту самую воздушную площадку, которая сулила отдых всякому, решившемуся преодолеть сюрпризы виллы Гимнастико до конца.
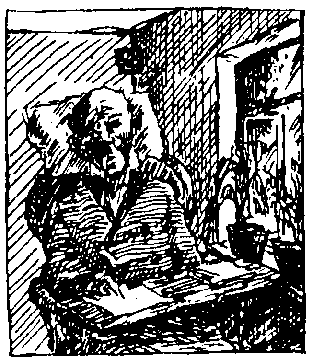
Михаил Никанорович Филиппов родился в г. Тамбове в семье мелкого чиновника. Девятнадцатилетним юношей он поступил в канцелярию губернского правления, где и служил непрерывно в продолжение пятидесяти лет, понемногу повышаясь в чинах.
В 1859 г. он вышел в отставку в чине коллежского асессора. Всю свою долгую жизнь Ф. безвыездно провел в родном Тамбове.
Художественной литературой Ф. увлёкся ещё в молодых годах. Весь свой долгий век он с поразительной методичностью и упорством, отличавшими все его действия, посвящал литературной работе от двух до трех часов ежедневно; воскресенья же и праздники отдавались чтению литературных новинок, неизменно действовавших на восприимчивую натуру Ф. как стимул к собственному, более или менее оригинальному творчеству. К дальнейшей судьбе своих опусов Ф. относился с тем бескорыстным идеализмом, который — увы! — так редко встречается в нашем столетии; вследствие этого обстоятельства число литературных произведений Ф., увидевших свет, не превышает, к сожалению, 85 томов; остальная часть его художественного наследия, превышающая указанную цифру по крайней мере в 2,5 раза, до сих пор остаётся ненапечатанною.
Первым серьёзным опытом нашего труженика слова следует считать романтическую повесть «Прасковья — стрелецкая дочь», появившуюся в «Тамбовских губернских ведомостях» в 1820 г.
За нею последовали робкие попытки овладеть стихотворной формой: поэмы «Еруслан» и «Неонила», «Евгений Мологин», «Бронзовый пешеход», не помешавшие, однако, плодотворности также и прозаических занятий Ф. Результатом этих последних явились романы «Майорский сынок» и «Живые сердца». К этому же периоду относятся и первые опыты Ф. в области стихотворной драмы: «Щедрый герцог», «Мраморный пришлец», «Попойка во время холеры» и «Счастье от глупости».
Не смущаясь молчанием критики, Ф. упорно продолжает свою работу, согласно завету Пушкина «всех лучше оценить сумеешь ты свой труд». Отказываясь от каких-либо иных развлечений, он уделяет этой работе все вечера после службы. Ни женитьба, ни постепенный прирост семьи не меняют ничего в этом поистине железном расписании времени. Поэтому нас вряд ли сможет удивить тот факт, что с 1840 по 1880 г. Ф. было закончено не менее 52 романов. Назовем некоторые из них, чтобы убедиться, насколько живо, быстро и горячо отзывался Ф. на все сколько-нибудь значительные явления современной ему отечественной литературы: «Кто прав?», «Что думать?», «Шарабан», «Вторая любовь», «Потом», «Матери и внуки», «Пар», «Корвет Церера», «Обрезов», «Откос», «Необыкновенная география», «Обиженные и ущемлённые», «Подвиг и награда», «Умный человек», «Село Карамазово», «Матрац», поэмы: «Русские мужчины», «Кому в Тамбове умирать нехорошо» и многие другие.
Пользуясь после выхода в отставку неограниченным досугом и не отвлекаемый никакими другими интересами, Ф. в последние 45 лет своей жизни развил совершенно необычайную энергию, закончив, по свидетельству его правнуков, свыше 150 романов и несколько сот повестей и рассказов. Ни преклонный возраст, ни замкнутый образ жизни не мешали ему каждый раз, как только в его поле зрения попадало новое произведение литературы, откликаться на него, предлагая читателю — или, по крайней мере, своей семье — новый оригинальный вариант затронутой темы. От эпохи Карамзина до первых выступлений русских футуристов трудно было бы указать какое-нибудь литературное течение или какой-нибудь серьёзный вопрос, волновавший наше общество, не получившие своего отражения в творчестве Ф., которое сделалось настоящим зеркалом русской культурной жизни на протяжении целого столетия. Это блестяще подтверждается перечнем заглавий крупнейших произведений Ф., увидевших свет с 1880 по 1914 г: «Обычаи Разболтаева переулка», «Бессилие света», «Семена невежества», «Понедельник», «Отваловские медяки», «Глухой актер», «Три кузины», «Тетя Паша», «Старик Игдразиль», «Повесть о восьми утопленниках», «Лиловый плач», «Крупный черт», «Незнакомец», «Резеда и минус», «Туча в манто».
Свидетель и посильный участник золотого века русской литературы, лишь нескольких лет не дотянувший до столетнего юбилея своей деятельности, Ф. являет собою незабываемый образец самоотверженного труженика на этом благородном поприще. Невольник вдохновенья, он всю жизнь торопился обогащать родную литературу сокровищами своего духа, не успевая заботиться об ювелирной отделке романов и поэм, как бы чувствуя всегда, что беспощадная смерть вот-вот оборвет его творческий подвиг на полуслове. И когда мы представляем себе, как 116-летний старец, испуская последний вздох над попыткою дать собственный вариант на тему «Ананасы в шампанском», прошептал трогательную в своей простоте и скромности фразу — «и моя капля мёду есть в улье!..» — мы испытываем то самое волнение, которое заставляет обнажать голову перед наиболее возвышенными явлениями жизни.
Осипко Давыдов сын Хрипунов родился 3 февраля 1550 г. в стольном граде Москве.
В ночь рождения его мать Секлетея вышла из избы на двор (источники дружно молчат о цели её выхода, и в исторической литературе есть несколько мнений об этом).
Подняв глаза к небу, она увидела знамение: огненный хвост в виде помела разметал освещённые облака и одно из них приняло форму собачьей головы, оскалившейся на Секлетею. Перепуганная женщина как была, так и опрокинулась на спину и с криками: «Ой, смерть моя пришла!» — родила сына.
Когда была основана опричнина, Осипке Хрипунову было 14 лет. Увидав опричную эмблему, Секлетея вспомнила своё видение и рассказала об этом соседям. Всей улицей решили немедля вести Осипка к царю, рассказать ему о знамении и просить зачислить Осипка в опричное войско.
Царь, услышав от родителей Осипка рассказ о его рождении, распорядился его принять в опричнину. На первых порах он продвигался по службе слабо. В знаменитом списке опричников, недавно опубликованном, мы видим его имя в разряде «Ниже всех статей» с окладом «3 рубли на год». Слава его пришла неожиданно.
На большом царском пиру в 1574 г. боярина князя Суглинского усадили далеко от царя, в конце стола. Не сказав сначала ни слова поперек, боярин изрядно выпил мальвазии и других хмельных напитков, после чего в нем неожиданно взыграло припрятанное было местническое чувство. Ударив кулаком по блюду с жареным лебедем и обратив на себя всеобщее внимание, князь Суглинский возопил, что не желает сидеть ниже таких-то и таких-то, привел наизусть родословные всех сидевших выше его и возвел хулу на их отцов и матерей. Особо поносными словами он очернил мать князя Юрия Ростовского меньшого, утверждая, что сам имел честь лишить её чести ещё до того, как она вышла замуж за отца князя Юрия, и что сидеть ниже сына такой бесчестной матери он не желает.
Услышав это, царь, бывший в этот день в весёлом настроении, сказал:
— Ну что ж, князь Иван, твоя правда, иди садись возле меня, — и указал на свободное место справа от себя.
Счастливый боярин, подобрав полы, быстро перебежал в голову стола и торжественно, с маху воссел на почётное место. Однако тут же он вскочил со страшным воплем. Из скамьи торчала стальная игла.
— Что, князь, — сказал царь с кроткой улыбкой, когда умолк за столом хохот, — выходит, не в месте дело. Недолго ты усидел. Поди-ка сядь, где сидел, да помалкивай, не то я тебя ещё и не так усажу!
Вдруг на всю палату раздался звонкий молодой голос:
— Батюшка царь, Иван Васильевич, вели слово молвить!
Это крикнул Осипко сын Хрипунов, стоявший у нижнего конца стола.
— Ну, молви, — сказал царь.
— Позволь мне, государь, на то место всесть. Может, там, где боярину по царскому указу сидети невместно, верному твоему опричнику в самый раз будет?!
— Садись, — сказал царь, и все замерли. Бодрым шагом прошёл Осипко к пустому месту, перебрался за скамью и, перекрестившись, с размаху сел... Звучно ударился он об лавку... кто-то громко охнул... Князь Суглинский подскочил на своем дальнем месте... А Осипко, даже ничуть не поморщившись, схватил чашу и сказал:
— Дозволь, великий государь, сидя на сей игле, не вставая, выпить эту чашу за долгие твои лета, доброе здравие и за победу над врагами чужеземными и внутренними.
— Пей, верный мой холоп Осипко Хрипунов, — отвечал царь. — А за геройство твоё, да за то, что посрамил боярскую спесь, будет тебе от меня таковое жалованье: перво-наперво дарю тебе парчовые штаны со своего царского плеча. Да, кроме того, жалую тебя «вичём», чтобы прозывался ты отныне Осип Давыдович сын Хрипунов. А поверх того дозволяю от сего дня тебе и всему роду твоему за царским столом не вставая, а прямо сидючи за наше царское здравие чашу выпивати.
Все гости зашумели одобрительно, а Осип Давыдович расплакался от великого такого счастья. Так и сидел он на игле до конца пира.
С тех пор он и потомки его сидели не вставая на царских пирах.
Как установил основоположник сравнительного литературоведения проф. Киселевский, о подвиге Осипка Хрипунова было сложено несколько былин и народных песен, сюжет которых перекочевал в мировую литературу и нашёл своё отражение в известной книге М. Твена «Принц и нищий», где право сидеть на королевских приемах завоевал герой книги — дворянин Гендон.
Нет необходимости говорить, что с того достославного часа карьера Осипка Хрипунова была обеспечена.
Он прожил долгую жизнь и сделал немало великих дел. Его слава несколько померкла при благочестивом царе Федоре, но вновь возродилась при Борисе Годунове.
Царь Борис относился к нему дружелюбно, хотя в своё время и досадовал на то, что на том пиру Осипко обошёл его и раньше успел сесть на иглу, хотя та же мысль почти одновременно пришла в голову и ему. Наблюдательный царь Иван заметил тогда досаду Годунова и на другой день сказал ему:
— Не тужи, Борис, что опоздал вчера на иглу сесть. Каждый служит тем, чем может. Тебе для исправления нашей царской службы и головы столь довольно, что незачем на сие другие свои достоинства употреблять...
Самозванец, подвергший осмеянию и поруганию многое из священной московской старины, решил подшутить и над старым Осилком Давидовичем.
Однажды на пиру он пригласил его сесть на знаменитое место, куда снова была воткнута стальная игла. Повторив свой геройский подвиг, старый слуга царя Ивана Васильевича сказал резким голосом:
— Не дурно бы и тебе, государь, в царское своё место спицу приспособить, да и на неё и всаживаться, а то не ровен час... да свалишься с царского места...
Лже-Димитрий, будучи нраву легкомысленного и отчасти весёлого, не рассердился на эту дерзость и сказал:
— Хорош твой совет, Осипко, да боюсь, в случае чего и спица не поможет.
Как известно, эти слова оказались пророческими. По мнению известного исследователя политических движений того времени И. Смерднова, этим ответом самозванец сильно подорвал свой авторитет, чем способствовал скорому успеху заговора Шуйских.
Осип Давидович Хрипунов погиб геройской смертью в 1612 г. в знаменитый августовский день, когда под Москвой было разгромлено войско гетмана Ходасевича, явившегося спасать поляков, осаждённых в Кремле. Лежавший на земле раненый польский жолнёр ударил копьём нашего старого воина. Направленное снизу вверх копье вонзилось Осипу Давидовичу Хрипунову именно туда, куда уже дважды вонзалась игла. Вскоре отважный старый опричник умер от потери крови.
Потомки его — князья Хрипуновы-Иголкины играли заметную роль в дальнейшей придворной истории.
(*) Рассказ написал не Даниил Андреев, а Даниил Альшиц (авторство было приписано Андрееву ошибочно из-за совпадения инициалов).

Дух сурового благочестия и патриархальности, господствовавший в скромной семье пастора глухого местечка Хаммерталь на севере Норвегии, где родился будущий глава литературной школы Нео-Эддизма, не препятствовал, однако, повышенному интересу к отечественной старине и, в частности, к поэтическим памятникам дохристианского периода.
Восприняв от отца и старшего брата горячую любовь к этим ранним творениям народного духа, Эриксен вместе с тем закончил период своего домашнего и школьного воспитания с затаённым чувством жгучей ненависти к ригоризму и к мещанской морали норвежского захолустья. В 1883 г. он поступил в университет в г. Осло (тогда — Христиания), философский факультет которого и окончил пять лет спустя. Общение с представителями студенческой и литературной общественности способствует окончательному определению Э. своих идейных позиций. Непримиримый враг христианских основ европейской цивилизации, молодой поэт как бы призывает благословение языческих божеств древности на свой литературный дебют, отказавшись от скромного имени и от фамилии, унаследованных от отца, и выступая под воинственным псевдонимом Сигурд Мйольнир. Романтическим индивидуализмом веет и от сборника его юношеских стихов, вышедшего под многозначительным заглавием «Наггльфар».
Здесь Э. подвергает одинаково суровому бичеванию как монашеско-аскетический, так и литературный идеал благочестивой, твёрдой в своих моральных устоях семьи. «О, громыхающие духи великих викингов! — восклицает поэт. — Обуреваемый гневом последний скальд скликает вас против ваших потомков, променявших бури океана и штормы духа на участь троллей. Зарыдайте — и скалы Хаммерталя треснут снизу доверху; захотите — и университет Осло взлетит на воздух со всеми грудами своей учёности...»
Увлечённый образами эддической поэзии, Э. выдвигает новый идеал: совмещение в одной личности всего зла и всего добра, доступных человеку. Этому идеальному образу он присваивает наименование «человека двойного размаха». В философии этой сказывается, конечно, современник Фр. Ницше: легко угадываются в ней и отголоски поэзии французских символистов, в особенности Ш. Бодлера и Жерар де Нерваля, придающие утончённое изящество и смысловую многоплановость стихийно космическим образам германской мифологии.
«Наггльфар» стяжал признание молодежи, выдвинул юного автора в первые ряды норвежских поэтов. Вместе с тем вызывающий тон этой оригинальной музы, местами, пожалуй, даже выходящий за пределы литературно-допустимого, вызвал взрыв негодования в правых и умеренных кругах норвежской общественности. В жизни самого Э. его первая книга получила значение рубежа, навсегда отъединившего его от родной семьи и прежних друзей. В продолжение 10 лет Э. живет в Осло, добывая средства к жизни случайным литературным трудом и изучая древнегерманские тексты в столичных книгохранилищах. Плодом этих вдохновенных занятий является филологическое исследование «Руны как рудимент древнейшего индогерманского алфавита», а также работа, не вполне отвечающая требованиям современной науки, слишком, быть может, строгим: «Исторические факты взаимопроникновения мифов, засвидетельствованные норвежскими и исландскими авторами VIII — XI столетий». Характер этой работы указывает на то новое направление, которое приобрели интересы Э.; попытка осмысления северогерманской мифологии под углом зрения оккультных теорий сказывается и в его романе «Самоубийство бога», опубликованном в 1897 г., выдержавшем за два года восемь изданий и переведённом на большинство европейских языков. Герой романа, молодой ученый-лингвист, приоткрыв покров символов, драпирующих оккультную глубину Эдды, решает строить свою жизнь согласно рецептам древних тайновидцев, в основных чертах совпадающих, как и можно было ожидать, с идеалом «человека двойного размаха». К сожалению, в этом романе нельзя не усмотреть гораздо больше автобиографических подробностей, чем можно было бы желать в интересах самого Э. Недостаточность документальных материалов, до сих пор опубликованных, не позволяет нам с уверенностью утверждать, что предосудительные, а порою даже вопиющие деяния героя романа точно отражают те или иные стадии развития самого автора. Однако цепь прискорбных происшествий, омрачивших биографию последнего скальда, доказывает с неопровержимостью, что о полном разграничении творчества и жизни писателя в данном случае не может быть и речи. Без труда прослеживаются в романе Э. также следы его двухлетнего (1895 — 1897) пребывания в Париже, где он предавался философическому изучению сексуальных причуд богемы и подонков «нового Вавилона». Критика обратила внимание также на реминисценцию идей Гюисманса, с одной стороны, Достоевского — с другой, обозначившуюся в романе «Самоубийство бога».
Сборник лирики «Я хочу», вышедший в 1901 г., не внес существенно новых черт в картину миросозерцания Э. Но в том же году мятежный борец за неограниченную свободу человеческого духа был привлечен к суду по обвинению в участии в чёрных мессах.
Судебное разбирательство не сумело внести должной ясности в противоречивые показания свидетелей этих утончённых забав нашего времени: Э. был оправдан, несмотря на негодующие голоса прессы, превратившиеся под конец в настоящий вопль. Этот вопль перерос в бурю, когда год спустя Э. подарил своих соотечественников новым романом «Выше безумия», где свойственное ему устремление к совмещению взаимоисключающих состояний выразилось в пропаганде оригинальной идеи совмещения в одной, всеобъемлющей личности острого душевного заболевания с полным душевным здоровьем. Реакция общественности на это смелое произведение пошатнула хрупкую нервную организацию автора; он погрузился в состояние глубокой прострации, под конец сумев, однако, почерпнуть новые жизненные стимулы даже в стенах психиатрической лечебницы. Самоотверженная любовь скромной больничной няни в отделении для буйных открыла перед ним путь к восстановлению душевного равновесия. Материальное положение его, упрочившееся благодаря успеху обоих романов, позволило Э. отказаться от литературной деятельности и уединиться с горячо любившей его женою в местечко Хаконфьорд на юге Норвегии.
Незаконченный роман «Вот корень жизни!», опубликованный уже после смерти Э., показывает, что перед исстрадавшимся странником по высотам и глубинам собственного «я» открывались новые жизненные перспективы в тихом счастье у семейного очага... Но рок судил иное: трагическая случайность оборвала жизнь Э. в самом начале этого многообещающего этапа. В марте 1910 г. глашатай новых понятий добра и зла погиб в собственной спальне — больше того, в собственной постели, — когда, переворачиваясь в темноте с одного бока на другой, ударился случайно головою об угол ночного столика.
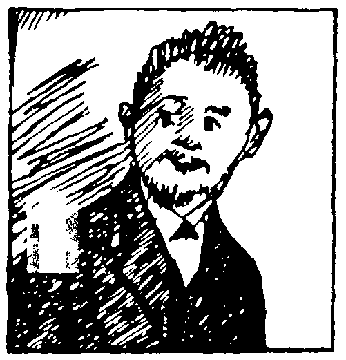
Евгений Лукич Ящеркин родился в г. Арзамасе Нижегородской губ. в семье мещанина, имевшего соляной лабаз на городском рынке. По окончании городского училища Я. благодаря выдающимся способностям удалось успешно выдержать вступительный экзамен в Рязанский учительский институт, который он и окончил в 1885 г.
Педагогическая деятельность Я., сперва протекавшая в русле русской педагогической традиции, началась на должности учителя словесности и географии в Трубчевской мужской гимназии (г. Трубчевск, Орловской губ.). Ни в образе жизни, ни в воспитательных методах Я. ничто ещё не давало оснований усмотреть в молодом учителе будущего теоретика и практика одной из оригинальнейших педагогических доктрин. Скудость биографических данных не позволяет нам установить, под воздействием каких именно философских и научных теорий складывалось его своеобразное credo, хотя, на наш взгляд, отголоски некоторых идей Руссо в доктрине сознательного инфантилизма очевидны.
Трубчевские старожилы свидетельствуют лишь о том, что на фоне медленно текущей жизни уездного города Я. в продолжение семи или восьми лет не проявил себя ничем выдающимся. По-видимому, со стороны своих питомцев он пользовался известным авторитетом как справедливый наставник и хорошо знающий свой предмет учитель; однако в особой напряжённости его умственной деятельности в этот период можно усомниться.
Та поражающая своей простотой идея, которая лежит в основе теории сознательного инфантилизма, осенила её автора внезапно, как своего рода озарение. Очевидно, как у многих одарённых натур, запас жизненных наблюдений, исподволь накапливавшихся где-то в подсознательной сфере ума скромного труженика на ниве народного просвещения, под влиянием неизвестного нам толчка вдруг озарился ярким светом, явив изумлённому разуму картину мировой жизни в новых соотношениях и закономерностях.
«Если мы хотим сделать человечество счастливым и гармоничным, — пишет Я. в своем основном труде «Стань ребёнком», — мы должны прежде всего правильно воздействовать на неокрепшую и податливую психику ребёнка. Если мы хотим на неё правильно воздействовать, мы должны понять её. Если мы хотим понять её глубоко и всесторонне, к этому нет лучшего пути, как уподобиться детям. Если же мы хотим уподобиться детям, то мы должны весь наш быт, наш душевный и житейский обиход построить так, чтобы воспринимать явления как дети, поступать как дети, рассуждать как дети. Только тогда преграда между нами и душою подростка или ребёнка — это проклятие всякого педагога — падёт; как бы перевоплощаясь в воспитуемого, мы получим такие возможности воздействовать на него, какие и не снились закоснелым воспитателям прошлого и настоящего».
Стройная логичность посылок и выводов, кристаллическая ясность изложения, неотразимая убедительность основной мысли делают это небольшое по объёму (всего 82 с.) произведение одним из драгоценнейших вкладов в сокровищницу русской педагогической литературы. Впервые уяснилась самому Я. эта идея весною 1894 г. и, как видно из дальнейших фактов его биографии, сразу захватила его с такой силой, что летние каникулы он целиком посвятил обдумыванию педагогической методики, равно как и проверки её экспериментальным путем. Глубоко честный и добросовестный по природе, наш мыслитель не мог успокоиться до тех пор, пока идея не получила безусловного подтверждения на путях строго научного опыта.
Первый эксперимент этого рода был произведен исследователем ещё в мае, в конце учебного года. Исходя из своей концепции перевоплощения педагога в ребёнка, Я. заключил, что ничто не даёт столь надежного ключа к пониманию души ребёнка или подростка, как повторение педагогом тех невинных шалостей и весёлых затей, которые свойственны непосредственному и жизнеутверждающему мирочувствию этого возраста. Однажды, собираясь после окончания уроков покинуть здание гимназии, Я. обнаружил, что его калоши прибиты гвоздями к полу. Эта довольно обычная, хотя и дерзкая, проделка школьной детворы, во всяком другом способная вызвать лишь раздражение, натолкнула вдумчивого наблюдателя на оригинальный эксперимент. На другой день, запасшись молотком и гвоздями, Я. с замирающим сердцем занял пост в темном углу учительского гардероба, ожидая подходящего мгновенья. Когда все преподаватели разошлись по классам, экспериментатор с чисто отроческим проворством не замедлил прибить к полу четыре пары калош. Но стук молотка привлек внимание гимназического служителя; Я. пришлось пренебречь последнею парой резиновой обуви, так и не получившей повреждений, и, спрятавшись в ретираде, наблюдать оттуда сквозь щёлку за растерянностью отставного унтер-офицера, тщетно пытавшегося обнаружить нарушителя порядка.
С мужественной откровенностью рассказывает наш исследователь о том, как гимназическое начальство заподозрило в недопустимой шалости одного из гимназистов III класса, который и понес наказание вместо истинного виновника. К сожалению, нет такой отрасли науки, которая в своем развитии не требовала бы некоторых жертв... разница — только в количестве! К тому же эту трагическую коллизию — вынужденное лицезрение того, как за твой поступок страдает невинный,— тоже следовало испытать и лично пережить всякому, кто стремился понять до дна детскую душу.
Окончание учебного года заставило Я. перенести свои опыты из стен гимназического здания в жизненную сферу трубчевских обывателей. Объектами послужили на первых порах хозяева скромной квартирки исследователя — престарелый о. Нектарий — священник церкви Сорока мучеников, известный своей строгостью и благочестием, и его супруга. Оба сына досточтимой четы проходили в это время курс в Орловской семинарии, и тихий домик на Ильинской улице давно уже отвык от шума детских игр. Это обстоятельство особенно ободрило исследователя, т. к. здесь, за неимением несовершеннолетних, уже никто не мог поплатиться за его предприимчивость, а тайну экспериментов можно было уберечь от преждевременных разоблачений.
Супруга о. Нектария имела привычку посвящать каждый пятый день недели, и особенно вечер, изготовлению особого рода пончиков и других изделий питательного свойства, долженствующих скрасить в субботу и воскресенье домашний стол служителя церкви. О. Нектарий в таких случаях отходил на покой, не дожидаясь матушки, а последняя довершала уединённо и, так сказать, келейно дневной труд в своей маленькой кухне. Кухня эта сообщалась с жилыми комнатами узким, но довольно длинным коридором, и это-то обстоятельство и навело Я. на идею очередного эксперимента.
В один из таких вечеров, дождавшись, когда лёгкое похрапывание возвестило, что о. Нектарий уже не может послужить помехой научным изысканиям, Я., сбросив ботинки и ступая на цыпочках, снёс из столовой и гостиной все стулья, кресла и даже маленький столик в коридор и бесшумно нагромоздил их друг на друга, так, что на протяжении двух саженей — от двери кухни до двери спальни — образовалось заграждение высотою в человеческий рост. Замирая от счастливого предчувствия, свойственного в подобных случаях десятилетнему возрасту, педагог дождался в своей комнате той минуты, когда усталая старушка, давно уже помышлявшая о заслуженном отдыхе, попыталась приоткрыть дверь из кухни в коридор и, встретив препятствие, довольно долго не могла, по-видимому, сообразить, в чем дело. Но и уразумение происшедшего не облегчило её положения: опасаясь разбудить строгого и взыскательного супруга грохотом обрушивающихся стульев и теряясь в то же время в догадках о виновнике странного явления, она целых полчаса пробиралась через баррикады, а потом разносила мебель по местам. Происшествие было столь необъяснимо, что даже наутро старушка не посмела поведать о нём о. Нектарию из опасения остаться непонятой или даже заподозренной в нелепых шутках, не подобающих её возрасту.
Следующим объектом опыта явился сам о. Нектарий. Возвратившись уж заполночь от благочинного, где вечер был проведен за преферансом, священник, как всегда, отпер дверь своего домика ключом и, не предчувствуя ничего дурного, шагнул в гостиную, через которую лежал путь в спальню. Но едва успел он сделать по гостиной два-три шага, как нечто тонкое и упругое, хотя и несколько отступившее под его натиском, преградило ему дорогу. В темноте священнику удалось убедиться на ощупь только в том, что это — бечёвка или шпагат, протянутый поперек комнаты на аршин от пола. Недоумевая, зачем понадобилось матушке развешивать белье для просушки именно в гостиной, да и к тому же над самым полом, о. Нектарий попытался свернуть вправо, но, к чрезвычайному его раздражению, и там дорогу ему преградила верёвка. Он подался влево, наткнулся на невидимую препону в третий раз, и в ту же секунду силуэт большого фикуса, смутно выделявшийся в отдалении на фоне окна, качнулся — и внезапный грохот, соединённый со звоном разбивающегося цветочного горшка, возвестил о печальной судьбе экзотического растения, слишком хрупкого для наших жизненных условий.
Наставительный и требовательный по своей природе о. Нектарий, однако, редко сердился на свою супругу так, как в этот раз. Когда матушка, поднятая с перин шумом опрокидываемой мебели и голосом владыки дома, вбежала в гостиную со свечою в руке, ей пришлось выслушать суровое обличение в том, что, найдя будто бы для сушки белья столь неподходящее место как гостиная, она даже не озаботилась вовремя снять веревки, чем подвергнула опасности жизнь богом данного ей мужа. Тщетно божилась бедная старушка, что она здесь ни при чем и что это — проделки домового. Наставник человеческих душ остался непоколебим в своем заблуждении до самой осени, пока ход событий сам собою не привел хозяев домика к пониманию истинных причин загадочных явлений.
Но ограничивать поле своей деятельности пределами этого домика отважный исследователь не намеревался. Сведя знакомство с окрестными мальчишками, в числе которых было и два гимназиста, он проводил каникулы среди детворы, разделяя все её забавы и всё глубже проникая в неисследованные пласты детской психологии. Рыбная ловля, хождение за грибами и ягодами, ловля раков, игра в бабки, купанье в речке — всё было испробовано и изучено, и Я. чувствовал, как молодеет его дух, как бы возвращаясь к девственной поре своего существования. Дети, сначала никакого удовольствия от проникновенья взрослого, да и к тому же учителя, в их жизнь не испытывавшие, постепенно прониклись к Я. доверием. Он убедился, что ничто в такой мере не способствует крепкой спайке и установлению дружеских привязанностей, как совместные шалости с их круговою порукой.
Известно, что мальчик, для которого не таилось бы острых наслаждений в набегах на чужие сады за зелеными яблоками, — лицо абстрактное, мифическое, выдуманное морализирующими наставниками, ничего не понимающими в детской душе. Разумеется, и в Трубчевске набеги эти совершались постоянно, но Я. всё-таки не решался принять в них участие из опасения, что кто-нибудь из малолетних может разоблачить тайну. Но потребность изведать и это детское переживание была столь велика, что наш исследователь решился предпринять набег на яблоки в одиночестве. В безлунную ночь прокрался он к забору, опоясывавшему плодовый сад купца Гамова, и, царапаясь о гвозди, которыми был утыкан конек забора, кое-как перевалился в сад. Эксперимент удался как нельзя лучше: все переживания, которые так страстно хотелось испытать отважному мыслителю, были испытаны — и не шутя, а всерьёз: он крался по росистой траве среди яблонь, он карабкался на деревья, он настораживался от шума трясомых веток и падающих яблок, он замирал от поднявшегося во дворе лая и топота бегущих ног, он срывался с дерева и опрометью бежал к забору, чуть не выкалывая себе глаза встречными ветками, он ухватывался за верхнее прясло и судорожно подтягивал туловище, он уже перекидывал на ту сторону одну ногу — и чувствовал, как преследователи ухватываются за другую. С торжеством, с чувством освобождения от величайшей опасности он пережил то мгновение, когда в руках преследователей остался только его левый сапог, и, возбуждённо дыша, помчался по улице, в темноте оступаясь с дощатых тротуаров и попадая разутой ногой в лужи. Упоительно прекрасен был и завершающий момент опыта, когда в безопасности, уже в своей комнате, психоиспытатель мог предаться чисто детской веселости, вспоминая пережитое и убеждая себя в прелестном вкусе яблок, таких кислых, что начинали ныть зубы и сводило скулы.
К началу учебного года Я., по свидетельству трубчевских старожилов, изменился так заметно, что это не могло укрыться от взора директора гимназии. Возбуждённое, всегда приподнятое настроение, безразличное отношение к своему костюму, загадочная улыбка, постоянно блуждавшая на его устах, неожиданный и беспричинный хохот — всё это заставило директора гимназии повнимательнее присмотреться к педагогу, дозволявшему, как это казалось другим учителям, «что-то слишком уж фамильярное отношение к себе» со стороны гимназистов. Однако то, что могло показаться со стороны фамильярностью, в действительности было новым типом отношений: активное вживание в детскую психику и практика сознательного инфантилизма привели к исчезновению всех естественных границ между воспитателем и воспитуемым, в то же время сделав Я. в глазах подрастающего поколения высшим авторитетом по части всевозможных затей.
В нашей художественной литературе не раз отмечалось уже, что романтическая мечта о бегстве в Америку, издавна знакомая русским школьникам, в конце прошлого века приобрела особую остроту. Естественно поэтому, что вскоре Я. обнаружил существование проекта такого рода среди своих учеников и не замедлил придать ему ту художественную законченность, которая отмечает все начинания нашего исследователя. Во всяком случае, без участия взрослого человека вряд ли удалось бы юным конквистадорам убежать дальше ближайшей железнодорожной станции. Следовательно, тот факт, что обнаружение и поимка беглецов состоялись только уже на Берлинском вокзале в Варшаве, неоспоримо доказывает вдохновляющую роль и творческое воздействие Я. Так или иначе, 35-летний мыслитель и два гимназиста IV класса после четырехдневного преследования были задержаны и доставлены в г. Орёл. Это прискорбное сообщение, заставившее Я. немедленно подать в отставку, совпало с выходом в свет издания Орловского книжного магазина Волкова знаменитого исследования «Стань ребёнком», где с обезоруживающей искренностью изложены не только заветные идеи автора, но и открытая им методика, опирающаяся на ряд подробно описанных экспериментов, лишь малая доля которых была упомянута нами здесь.
Невозможно освободиться от чувства горечи и, мы бы сказали, некоторой неловкости за педагогику 90-х гг., за её косность и страх перед всем новым и свежим, когда знакомишься с теми откликами на этот труд, полными рутинерского негодования, глубокого непонимания и даже глумления, которые не замедлили появиться в общей и специальной печати не только в Орле, но и в Петербурге. На этом фоне позиция известного педагога-теоретика Щукина, занимавшего в то время пост попечителя Учебного округа (именно от него зависела дальнейшая судьба Я. Как педагога), кажется сравнительно гуманной и, во всяком случае, честной. Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, Щукин категорически отверг версию об умопомешательстве Я., равно как и оскорбительное подозрение в злонамеренно-хулиганском характере его опытов. Опубликованная в «Журнале Министерства народного просвещения» статья Щукина радует той принципиальной высотой, до которой смог подняться в этом случае непримиримый противник теории сознательного инфантилизма.
Невозможность продолжать педагогическую деятельность в условиях царской России заставила Я. подумать о приложении своих сил и об осуществлении своих заветных идей вне отвергшего его отечества. Опасаясь, что в любой другой цивилизованной стране он может встретить столь же глубокое непонимание, Я. остановил свой взор на одной из стран, с древних времен пребывающих в состоянии неомрачённой инфантильности, где дети народа, не искалеченного европейской цивилизацией, с распростертыми объятиями встретили бы автора учения «Стань ребёнком»: на Абиссинии. Как раз в эти годы отбытие русской миссии к Менелику II, научные экспедиции д-ра Елисеева, Булатовича, Артамонова, укрепление связей между русской и абиссинской церквями повысили интерес русской общественности к далекой империи «чёрных христиан».
Надежда Я. на Менелика, преобразователя своей страны, вполне оправдалась: обласканный императором, русский мыслитель получил возможность устроить школу в недавно присоединённом к Абиссинии городе Харраре, где училище, основанное на принципах русского (т. е., как казалось Негусу, христианского) воспитания, должно было служить противовесом влиянию магометан, издавна обитавших в этом городе. Незнание абиссинского языка вполне возмещалось изобретённым Я. специально для этого случая языком жестов.
К сожалению, почти единственным источником, позволяющим нам составить представление о жизни Я. в Харраре, остаются его письма в родной Арзамас брату Порфирию Лукину — письма всё более редкие, более лаконичные и, наконец, после одного сообщения колоссальной важности прекратившиеся вовсе. Очевидно, своеобразие жизненных условий, в которых оказался русский педагог, ещё усугублялось им по собственной воле.
В короткое время он сделался в буквальном смысле слова кумиром воспитанников, ибо основная мера его воспитательного воздействия, развивавшая в учениках смелость, отвагу, волю, предприимчивость и весёлый, легкий характер, заключалась во всевозможных проказах, проводимых группой мальчиков сообща с педагогом. К сожалению, местные землевладельцы и духовенство не сумели в должной мере оценить этот передовой метод. Из одного глухого замечания Я. можно заключить даже, что он сделался объектом покушения, к счастью — неудачного. Остается не вполне ясным, как именно был организован этот возмутительный акт варварства; во всяком случае, во время скачки Я. со своими учениками на жирафах животное, нёсшее на себе воспитателя, было вероломно загнано с открытой местности под древесную сень; не умея остановить невзнузданное животное, Я. запутался растрёпанной шевелюрой в древесных ветвях и, сорванный с жирафа, повис, подобно библейскому Авессалому, на аршин от земли.
Неизвестно, чем окончилась бы для Я. эта фанатическая вражда, которую он возбудил к себе со стороны реакционных кругов абиссинского общества, если бы новый перелом в его жизни не расторг его связей не только с абиссинским, но и со всяким человеческим обществом вообще.
«Поделюсь с тобой, любезный Порфиша, — пишет он брату в своем последнем письме, — ослепительными перспективами, передо мною открывшимися. Язык жестов, об усовершенствовании мною которого ты уже знаешь, оказывается ключом к целому миру открытий. Это тот самый язык, отсутствие которого мешало нам до сих пор перебросить мост через пропасть, отделяющую человека от высших животных. Я убедился, что обезьяны понимают меня порою не хуже, чем абиссинская детвора.
Будь что будет, но в интересах гуманнейшей из наук — педагогики я решил отныне посвятить себя просвещению при помощи этого языка несчастного отверженного племени, вся вина которого состоит в обладании хвостом».
В итальянском католическом журнале «Fides Apostorica» за 1907 г. нам удалось обнаружить интереснейший документ, проливающий свет на роковую минуту в биографии Я. — минуту его исчезновения из человеческого общества. Документ этот — воспоминания настоятеля католической церкви в Харраре Бонифацио Кончины о его деятельности в Абиссинии. Страницу этих воспоминаний, относящуюся к Я., приводим полностью.
«С некоторого времени все, кому было доверено духовное руководство населением г. Харрара, были обеспокоены появлением некоего русского по имени Черкино (Cerhino). Этот авантюрист или, как думали некоторые, помешанный имел, по-видимому, на своей стороне связи в правительственных сферах, ибо ничем иным невозможно объяснить покровительство, которое оказывал ему император Менелик. Черкино основал в Харраре некое подобие, вернее, странную карикатуру училища, общаясь с воспитанниками путем жестикуляций. Вместо передачи абиссинским детям полезных знаний этот самозваный педагог занимался только тем, что выдумывал и вместе с воспитанниками совершал дикие непростительные выходки. Особенно пострадали от его бесчинств следующие лица: армянский негоциант Мирзоянц, которого этой компании удалось испугать, инсценировав появление льва, вследствие чего негоциант, спасавшийся бегством, вывихнул себе ногу; священник-ортодокс Дебра Либанос, которого хулиганы довели до обморока, мороча его привидениями; мулла Хассан-Керим, поставленный ими в положение, о котором стыдливость заставляет умолчать, и многие другие. Жалобы императору и митрополиту в Энтото, равно как и вмешательство раса Заиту, ни к чему не приводили. Наконец к счастью для Харрара, в мозгу этого русского мелькнула светлая идея, и он уразумел, что общество обезьян подходит ему гораздо больше. Так как обезьяны в изобилии водятся в окрестных лесах и являются свирепыми истребителями фруктов, то владельцы садов в Харраре обращаются с этими животными без излишней нежности. Черкино взял животных под свою защиту, и много раз его видели с группами обезьян, обменивающегося с ними недвусмысленной жестикуляцией, способной погрузить в печальные размышления всякого христианина. Наконец, автор этих строк вместе с другими жителями оказался непосредственным свидетелем странной и возмутительной сцены.
Однажды в лунный вечер подле городских ворот обезьяны подняли ужасный шум. Выйдя из ворот, я увидел, что шум этот, как и вообще всякий беспорядок в Харраре, вызван всё тем же Черкино: залитый лунным светом, он носился по лужайке с обезьянами в экстатическом танце. Приблизившись к опушке леса, несчастный обернулся к городским воротам и, видя нескольких человек, с нескрываемым осуждением наблюдавших его действия, стал совершать нечто вроде реверансов и особых движений руками, имевших, несомненно, смысл прощального приветствия. Затем, подхваченный с обеих сторон обезьянами, он устремился к деревьям и, с поразительной ловкостью вскарабкавшись по сучьям, исчез в листве. По ликующим крикам стаи можно было заключить о том, как она удалялась со своим новым товарищем в направлении девственных тропических лесов Шоа. Никаких известий о дальнейшей судьбе этого русского население Харрара не дождалось».